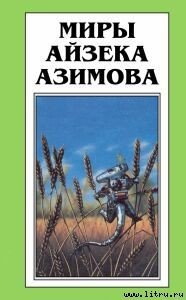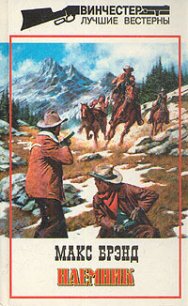Забвение - Зорин Леонид Генрихович (книги регистрация онлайн бесплатно TXT) 📗
Вам надо встретиться с Вельяминовой, как говорится, увидеть глаза. Я убежден, что в основе коллизии — провинциальная фанаберия. Те, кто попал в столицу поздно, самоутверждаются с вызовом. Вы сейчас взвинчены, раздражены, я вас отлично понимаю. Но будьте снисходительны к даме, к старой периферийной даме, попробуйте понять ее чувства, примерить на себя ее шкуру. Все мы — провинциалы космоса, чахлые ветви с древа познания. Дайте ей некоторую сатисфакцию. Россия прирастает провинцией».
Так он ораторствовал, слишком цветисто, несколько любуясь собою. Прямо еще один Тимотеус, если б не голос, напоминавший культовый хрип Луи Армстронга. Мне стоило усилий сдержаться, не сообщить ему, что и он самоутверждается тоже. Почти как безвестная Вельяминова. Но я не хотел быть неблагодарным. Он искренне болел за меня.
В нашей словесности, как правило, провинция — предмет апологии. Одический тон обычно отпугивает своим холодком, однако провинция вносит в него некий уют, некую домашнюю ноту, демократизирует жанр.
Мир хижинам! Столько умильных страниц отдано этим дремлющим улочкам, старозаветной тишине, неторопливым вечерним беседам. А это самоварное счастье в летнем дворе под раскидистой липой! Эти радушные библиотеки — последний оплот российской духовности! Здесь грудью встречают машинный скрежет вестернизированной цивилизации.
А гений местности, долгожитель, обитающий в истории края, как в собственной спаленке, и стерегущий, точно одноименный эсминец, эти традиции и легенды!..
И — девушка! Разумеется, девушка, без девушки тут не обойтись — учительница начальной школы или сестра из поликлиники, чудо с фиалковыми глазами! Путник, изверившийся в соблазнах сексуального переворота, в расчетливой страсти феминисток и прочих фурий, обманутый странник, сын блуда — есть дом, где тебя ждут.
В юные годы я мало ездил, мне оставалось лишь верить на слово, что в этих заповедниках бьется застенчивое сердце России. С течением времени все изменилось — не раз и не два покидал я столицу и, исполняя свои обязанности, подолгу живал в городках, являвших собой истоки и корни. И мало-помалу стал утрачивать ту детскую размягченность взгляда, с которой когда-то воспринимал нужники под открытым небом. Поэзия скудости и запустения уже не умиляла, не трогала, скорее, ожесточала меня.
Дольше всего во мне сохранялась школярская книжная убежденность, что все эти темные стороны быта, в сущности, ничего не стоят — важен единственно горний свет, который исходит от аборигенов. Прямые души непритязательны. Но оказалось, что это не так. Прямые души весьма остры. Об эти души легко порезаться.
Естественно, что по роду деятельности я прежде всего расширял впечатления, знакомясь с туземной уголовщиной. Она поражала не только лютостью, но еще больше — необъяснимостью. Преступнику сплошь и рядом не требовалось даже подобия мотива. Моя адвокатская многоопытность порой пасовала пред этой скукой, этим безмятежным покоем и равнодушием к содеянному. Впору было, махнув рукой, пролепетать, обращаясь к судьям: сказать мне вам нечего, будьте милостивы, ибо не ведают, что творят.
Но если и отвлечься от выродков, ставших моими подзащитными, и вообще — от всякой экстремы, общение с мирными обывателями также принесло мне открытия.
Понятно, что в родном мегаполисе я часто встречался с его гостями, но я полагал, что под нашим небом они теряют свое богатство и даже хотят его потерять — оно их тяготит, словно девственность. Москва — это арена и ринг, и те, кто приезжает в нее, чувствуют себя гладиаторами. Наверняка в своем отчем доме они беспечней и миролюбивей. Я и помыслить прежде не мог о том, какая горючая смесь заваривается в тоске невостребованности, какой здесь подводится грозный счет, чтоб в некий день предъявить его миру.
Но предстоящее мне свидание навряд ли тянет на поединок и уж тем более на реванш, который приезжая дама мечтает — пусть подсознательно — нынче взять у взысканного судьбой москвича. Дама, возможно, амбициозна, но не настолько же кровожадна. Безродов прав — я должен явить способность к сотрудничеству, уважительность, не демонстрировать превосходства. Непросто. Но надо спасать свое детище.
Издательство «Весы» размещалось в полуподвальном помещении, что не свидетельствовало о процветании. Но в коридорах было людно. И — по осанке и по походке — без напряжения, без усилий, я отделял гостей от хозяев. Сотрудники держались уверенно, а гости уступали дорогу, жались к стенкам, посматривали искательно. То были товарищи по несчастью, которые так же, как я, решили облагодетельствовать отечество. Взамен они просят хоть волоконце читательской благодарной памяти. Боги, вы были ко мне беспощадны! Бросили в хоровод безумцев, где каждый втайне ждет вашей помощи, надеясь на то, что «весь не умрет». Стыд и позорище. Смех и слезы.
После блужданий по закоулкам мне удалось отыскать комнатушку, где обреталась моя Вельяминова. Она появлялась в издательстве редко, как и положено наставнику, бросающему, время от времени, плодоносящее семя в почву. Чем реже солнышко, тем дороже. Сегодня оно как раз озаряет полуподвал, и по этому случаю я получаю аудиенцию.
Я постучался.
— Да. Пожалуйста.
Голос был хрипловатым, прокуренным, и все-таки мне вдруг показалось, что я когда-то его уже слышал. Такое со мной часто случалось в последнее время — едва я вошел, я понял: очередной конфуз. Моя экзотическая болезнь не только разрушает мой мозг — периодически затевает свою издевательскую игру.
За письменным столом восседала заметно погрузневшая женщина в коричневой пуританской кофте, однако с кокетливой косынкой, надежно прятавшей ее шею. Она была коротко подстрижена, на переносице грозно поблескивали очки в металлической оправе с модными затененными стеклами. А перед нею лежала папка — мое обреченное творение. Она возложила на машинопись руки, уже крапленые возрастом, внимательно меня оглядела, прежде чем приступить к экзекуции, немного помедлила, а затем подчеркнуто деловой интонацией сразу же возвела барьер.
— День добрый, Алексей Алексеевич. Оба мы — занятые люди, не будем растекаться по древу. Мой опыт — а он, увы, основателен — меня приучил к тому, что авторы способны воспринимать аргументы лишь в самых исключительных случаях. Я не надеюсь вас убедить, тем более что суть разногласий не в эстетических пристрастиях, а в более серьезных вещах.
Я обозначил — возможно учтивей — свой неподдельный интерес:
— В чем же суть наших разногласий?
— В несовместимости позиций. Очень возможно, в другом издательстве книга, предложенная вами, вовсе не вызовет отторжения. Но у издательства «Весы» свой взгляд, свои требования к автору. Иметь их — наше право. Согласны?
— Конечно. Тем более, вы их оплачиваете. Мне можно узнать, в чем они состоят?
— Автор, говоря фигурально, должен иметь ту же группу крови.
Я только вздохнул. Старик Безродов, на сей раз, безусловно ошибся. Готовность внимать ее поучениям и обаятельная улыбка не сокрушат этой твердыни. Подагрические колонны бессмертия вряд ли подопрут мое имя.
— Вы ни о чем не хотите спросить меня?
— Нет, если уж дело дошло до деликатной проблемы крови.
Мое смирение ее не устроило.
— Я поясню свои слова. Над вашей рукописью витает, а лучше сказать, ее пронизывает неистребимый советский дух.
Вот оно что! Предо мною — воительница. Все та же гимническая мелодия «отречемся от старого мира». Несчастный Алексей Головин! К вам обращаюсь я, друзья мои, братья и сестры — где справедливость? Бесфамильный глухо подозревал в антисоветчине, Виктор хотел четкой и внятной гражданской активности, Валерий не скрывал удивления, видя, что мне не дается язык, который принят на вооружение, Виталий едва не стонал от досады — так уж хотелось ему увидеть харизматического вождя. Один Владимир меня не дергал, пусть ему за это воздастся. И вот дождался: держу ответ за весь союз республик свободных. Куда же крестьянину податься?
— В чем же, скажите, вы учуяли это советское амбре?