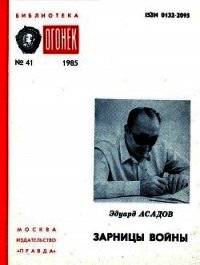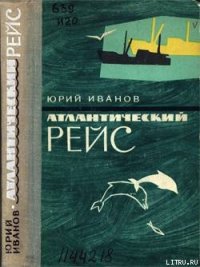Россия распятая - Глазунов Илья (книги полные версии бесплатно без регистрации TXT) 📗
Из русских художников мне вновь хотелось бы в этой связи назвать среди многих величайших «композиторов», владевших в совершенстве тайнами создания картины, – Александра Иванова и Василия Сурикова. Иванов, решая сложнейшие композиции с виртуозной легкостью, равной мастерам Возрождения, наибольшее внимание уделял рисунку. Суриков – цвету: «Есть колорит – художник, нет колорита – не художник». «Я на улицах всегда группировку людей наблюдал, – говорил Василии Иванович. – Приду домой и сейчас зарисую, как они комбинируются в натуре. Ведь этого никогда не выдумаешь. Случайность приучился ценить. Страшно ракурсы любил. Всегда старался дать все в ракурсах. Они очень большую красоту композиции придают. Даже смеялись товарищи надо мной. Но рисунок у меня был не строгий – всегда подчинялся колоритным задачам».
И все-таки недостаточно быть рисовальщиком, колористом и владеть композицией, необходимо главное: иметь – что сказать людям. Художник велик тем, что, постигая тайны мира, создает свой мир. Картина – окно в этот мир. Колорит, рисунок, композиция – лишь средство донести его до зрителя. И самая страшная ошибка в искусстве (да и в жизни!), когда средство становится целью. Многие критики и художники, современники Сурикова, говорили – и, вероятно, справедливо, – что у него есть погрешности в рисунке и композиции. Однако именно Суриков вписал свою страницу в историю не только русского, но и мирового искусства. Ему было что поведать людям, в его душе жил целый мир образов древней России, философских идей, связывающих эти образы в единую концепцию. Вобрав в себя неисчерпаемые богатства наследия мирового искусства от Рафаэля до открытий импрессионизма и новейших течений французской школы, Суриков сумел все это переплавить в неповторимый слиток на своем самобытном языке. Он рассказал людям о мире древней вечной Руси, о борениях народной стихии, о таинственном взаимодействии личности и толпы, трагедиях исторической жизни нации. Как обеднели бы мы, если б в нашем искусстве не было этого загадочного человека, так много сделавшего для утверждения национальных идеалов красоты, страстно влюбленного в бытие русского народа! В своих композициях Суриков создал вдохновенные поэмы о духовной красоте русского национального характера, явил миру образы незабываемой силы, они сродни образам Достоевского и Мусоргского своей истовой страстью, способностью к подвижническому служению и самопожертвованию. В конце жизни Суриков под воздействием разных причин отошел от своего эпического начала. Это был его конец… Русская школа может гордиться своим, во многом ныне потерянным, искусством создавать картину-роман. Не забудем также великую православную духовность картин Виктора Васнецова и Михаила Нестерова…
Когда в мастерской стало совсем темно, я включил свет и после перерыва в две недели, которые казались мне вечностью, словно совсем по-новому в который раз смотрел на свою картину, на втоптанную рожь, изнемогающих от усталости и жары беженцев, опять в ушах моих слышался рев немецких истребителей, когда я с родителями среди руин шел с рюкзаком в сторону моего родного города. Я все равно ее закончу!… «Если против тебя все – это значит, что ты самый сильный», – гордо провозгласил Юлий Цезарь.
Рядом у стены стояла огромная по размерам другая неоконченная работа: Джордано Бруно, под звездным небом, в таинственной ночной тиши. На крыше католического собора монах Джордано стремится приобщить свой дух к тайне Вселенной, созданной всемогущим Богом. На кого из нас не действует, обрекая еще на большее одиночество, созерцание ночного неба, сверкающего мириадами звезд? В одном из сонетов Джордано Бруно вопрошает:
Неспроста считается, что если человек любит смотреть в ночное небо и на далекие звезды – это значит, что он одинок и осознает таинственную связь со своими предками или с отцом и матерью, когда они уже не живут на земле. Я навсегда запомнил, как в темные ноябрьские ночи ленинградской блокады мой отец показывал мне и называл имена далеких звезд, которые будут сиять и тогда, когда нас не будет на земле.
Моя жена Нина с маминой сестрой тетей Асей ждали меня в Ботаническом саду в доме ботаников, куда я снова переселился из общежития после смерти мужа тети Аси, Николая Николаевича Монтеверде. Тетя Ася была очень одинока, и я помню частые слезы на ее столь дорогом для меня лице. Вот уже два года, как в мою жизнь вошла нежная, удивительная, сильная и преданная Нина. Я был очень рад, что тетя Ася так полюбила мою жену. Придя домой из Академии, несмотря на поздний час, мы любили выходить в ночной сад, шумящий кронами столетних деревьев. В Ботаническом было всегда тихо и безлюдно – словно попадаешь в давно ушедший мир старинной русской усадьбы. В. эти поздние часы небо над городом казалось в розовой мгле – словно от далекого зарева, которое отражалось в прудах старого парка. Сколько раз, видя напряженную скомканность моей усталости, Нина говорила мне о том, что я преодолею все и ее жизнь теперь принадлежит мне. Обнимая меня в темноте шумящего парка, она говорила нежно и истово: «Ты победишь, я сразу поверила в тебя – моя преданность и любовь будут всегда с тобою…»
В темноте старого парка, помню, Нина рассказывала мне о том, что, когда она была совсем юной, любила бродить одна по осенним паркам нашей блоковской Петроградской стороны, неподалеку от церкви у моста на каменноостровском, на берегу Невки, построенной в масонско-готическом стиле безутешной матерью на месте дуэли ее сына. Это были места поединков (происходивших обычно рано на рассвете) петербургской аристократии – неподалеку от места убийства Пушкина на Черной речке. Наискосок от церкви на том берегу Невки был дом, построенный сразу после войны, где жила семья отца Нины – архитектора Виноградова. Набережные заросли крапивой и были закиданы проржавленными старыми кроватями когда-то, еще до бомбежек и голода блокадных месяцев, живших там ленинградцев. Днем аллеи парка были особенно безлюдны, и ей казалось, что по одной из аллей, где стены черных стволов деревьев кажутся бесконечными, теряясь в весенней мгле, придет тот, кого она ждет и будет любить всю жизнь. Как зеленые огоньки, распускались почки на старых деревьях. Ни с чем не сравнимая весна в Петербурге… Навсегда останутся в сердце моем сказанные ею тогда пронзительные слова: «Тебя не было, только лед звенел и крошился на синей Неве. Но я дождалась тебя, такого красивого и неподкупного рыцаря, пахнущего краской, с вечно усталым, бледным лицом. Мои родители, как ты знаешь, сразу невзлюбили тебя, считая беспутным и несерьезным, хотя и талантливым человеком. Они считают, как, впрочем, и твой дядя Миша, что будешь со мной несколько месяцев. Все проходит, как говорит Библия… Они не знают, что мы будем вместе до конца. Я знаю, я перенесу все и буду предана тебе, как Сольвейг…»
В темноте сумерек по воде черного пруда расходились, словно золотые кольца, всплески на воде. А после темного одинокого парка – как шумно бурлит и горит огнями Петроградская сторона! Как мощно и красиво стоят многоэтажные дома, построенные накануне революции на Каменноостровском проспекте. Светящиеся глаза окон. И в каждом окне своя жизнь, свои судьбы и трагедии. Вот она, одна из тайн реальности мира во всей ее поэтической простоте и несказанности. Огни окон, переходя в звездное небо над городом, отражались в Нининых глазах. Прикрытые пушистыми ресницами, они излучали любовь и чистоту нежности. Ей было тогда 18 лет… Свечение оконных огней сливалось с мерцанием одиноких звезд мглистого ночного неба. Они становились особенно яркими, если смотреть с булыжников по-петербургски глубокого и темного двора-колодца.
…Через 30 лет в Москве мне принесут из 83-го отделения милиции ее обручальное кольцо с привязанной к нему картонкой. На бирке простым карандашом было написано: Нина Александровна Виноградова-Бенуа, год рождения 1936, умерла 24 мая 1986 года… Били по мне – попали в нее. Я плохо помню сквозь черный туман горя те страшные дни ее гибели… Почему ее обручальное кольцо мне не отдавали полгода? И почему и кто отдал? Не могу, нету сил касаться этой непреходящей боли…