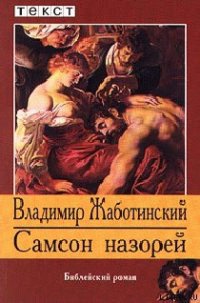Пятеро - Жаботинский Владимир Евгеньевич (книги читать бесплатно без регистрации полные txt) 📗
Потом Екатерининская: бестолковая улица, ни то и ни се; притязала на богатство, щеголяла высокими франтоватыми домами вчерашнего производства, и почему то «сюдою» по вечерам вливался и на Дерибасовскую, и на близкий бульвар главный поток гуляющих; а чуть подальше, справа, шумные, как море у массивов, запруженные сидящими, окруженные ожидающими, темнели биржи-террасы кофеен Робина и Фанкони.
Но в то же время «сюдою» и няньки водили малышей в детский сад, что ютился под обрывом у самого бульвара; и приказчики и посыльные; с пакетами и без, тут же сновали между городом и портом; и сама портовая нация, в картузах и каскетках набекрень, а дамы в белых платочках, часто предпочитали, чем тащиться по отведенным для этого сословия плебейским «балкам» и «спускам», гордо взмыть к высотам прямо из гавани по ста девяносто восьми гранитным ступеням знаменитой лестницы (одно из восьми чудес света), — и наверху, мимо статуи Дюка в римской тоге, сразу вторгнуться в цивилизацию и окропить тротуары Екатерининской водометом подсолнечной шелухи. Не просто угол двух улиц, а микрокосм и символ демократии — мешанина деловитости и праздношатания, рвани и моды, степенства и босячества… Одного только человека не ожидал я встретить на том углу — а встретил: моего дворника Хому.
Уже несколько недель подряд, каждое воскресенье, попадался мне на Дерибасовской Хома: причепуренный, кубовая рубаха и белый фартук только что стираны и выглажены, борода расчесана. В первый раз, встретясь с ним глазами, я удивился: что он тут делает, за тридесять полей от своей законной подворотни? В руках у него не было папки, — значит, не в участок идет прописать жильцов, и не из участка; да и не по пути это совсем к его участку. Гуляет, как все? Не могло того быть, по самой природе вещей и понятий; притом он и не двигался, а стоял в подъезде чужого какого то дома с видом гражданина, знающего свое место, и тут оно, его место, и находится. Только на следующее воскресенье заметил я, что он не один: позади, в тени подъезда, виднелось еще несколько белых передников. На этот раз, случайно, был со мной Штрок, наш полицейский репортер, мужчина всеведущий; он мне объяснил.
— Разве не знаете? Все по поводу ожидаемой демонстрации; вот и вызвали со всего города дворников позубастее на подмогу городовым.
Квартал между Екатерининской и Гаванной я проходил с ощущением (хотя бы даже только что и пообедал) гастрономического подъема, чаще всего машинально переправляясь на правый тротуар: там, в огромном и приземистом доме Вагнера, в 1лубине пустынного двора ютилась старая таверна Брунса, где в полночь, после театра, ангелы небесные, по волшебным рецептам рая, создавали на кухне амброзию в виде сосисок с картофельным салатом, а Ганимед и Геба (я путаю демонологические циклы, но благодарный восторг не покоряется правилам) сами за перегородкой отцеживали из боченка мартовское пиво. — Здесь, у Брунса, в одну такую ночь, по поводу, о котором будет рассказано в другой раз, Марко вдруг отстранил от себя уже поданное блюдо с сосисками и заявил мне, что отныне переходит на сурово-кошерную диэту.
…Рука зудит воздать подробную хвалу и остальным углам: Красному переулку, с крохотными домиками в сажень шириной, последней крепости полутурецкого эгейского эллинизма в городе, который когда то назывался Хаджибей; тихой Гаванной улице, куда незачем было сворачивать извозчикам; Соборной площади, где кончалась Дерибасовская и начинался другой, собственно, мир, с иным направлением улиц, уже со смутным привкусом недалеких оттуда предместий бедноты — Молдаванки, Слободки-Романовки, Пересыпи, — словно здесь два города встретились и, не сливаясь, только внешне сомкнулись. Но нельзя без конца поддаваться таким искушениям; а главное сделано — мы добрались до угла Дерибасовской улицы и Соборной площади, где это началось — и там же, минуту спустя, кончилось.
Я не видел; но внезапно прибежал в редакцию коллега Штрок, поманил всех к себе и сообщил полушепотом: только что произошла «демонстрация». Их было около сотни, все молодежь, и больше евреи; около трети были девушки; одно красное знамя, и знакомый пристав божится, что на нем было вышито «долой самодержавия», в родительном падеже. Двадцати шагов они не прошли, как налетели со всех сторон полчища городовых и дворников, понеслись женские вопли; свалка и ужас; появились казаки и стали разгонять публику, очищая тротуары копытом и нагайкой. Теперь демонстрантов угнали в соседнюю полицейскую часть; там заперты ворота, перед воротами стража, никто и мимо не проходит, только по всему городу у людей испуганные, придавленные лица, и все шепчутся: «смертным боем бьют, одного за другим…».
Часа в три меня вызвал в приемную редакционный служитель; он был единственный православный во всем помещении, кроме наборной, но и его звали Абрам:
— Там до вас дама пришла.
Дама была Анна Михайловна. В первый раз видел я так близко большое человеческое горе; хуже горя — горюешь о том, что уже случилось и прошло: но у нее было такое лицо, точно ржавый гвоздь воткнули в голову, он там, и нельзя от него избавиться; не «прошло», а происходит, в эту самую минуту совершается, вот-вот за углом, почти на глазах у нее, и она тут сидит на кожаном кресле, и помочь нельзя, а кричать стыдно.
— Там была Лика!
Я ничего не сказал; велел Абраму никого не впускать, притворил дверь, стоял возле нее, она сидела, оба молчали и думали, и вдруг и я почувствовал тот самый ржавый гвоздь у себя в мозгу: о чем ни старайся подумать, все равно через полминуты вспомнишь о ржавом гвозде. Оттого, должно быть, и говорят: «гвоздит». Одна мысль у меня гвоздила: как я тогда летом на даче взял Лику только за руку, только помочь ей на крутой тропинке обрыва, и как она вырывалась; и как, проходя мимо человека в коридоре, она вся сторонилась, чтоб, не дай Бог, и буфом рукава до него не прикоснуться. Недотрога, всеми нервами кожи, всеми нитками одежды; а теперь ее там бьют шершавыми лапами эти потомки деда нашего гориллы. — Так просидела у меня Анна Михайловна час и ушла, ничего не сказав.
Несколько подробностей я услышал вечером у себя дома, от нашей горничной Мотри, а ей рассказал очевидец и участник Хома. Над мужским составом демонстрантов, когда закрылись ворота, потрудился и он, до сих пор ныли у него косточки обоих кулачищ; загнали на пожарную конюшню, выводили оттуда поодиночке, а потом уносили. Другое дело барышни, с барышнями так нельзя, полиция тебе не шинок. Барышей, передавал Хома, покарали деликатно, по отечески, и без оскорбления стыдливости — в том смысле, что никого при этом не было, кроме лиц вполне официальных. Он, Хома, и тут предложил было свои услуги, но пристав не разрешил; дверь той комнаты была плотно закрыта, и работали исключительно городовые.
XI
МНОГОГРАННАЯ ДУША
В редакции была для меня открытка с раскрашенной картинкой, и письмо из Вологды. Разрывая конверт, я тем временем посмотрел на открытку. Штемпель был городской; раскрашенная картинка изображала злую худощавую даму, избивавшую большой деревянной ложкой собственного мужа. Под этим было чернилами приписано, без подписи и печатными буквами: «Так будет и с тобою за статью о шулерах». Я, действительно, за неделю до того написал, что в городе появилась молодежь, нечисто играющая в карты, иные даже в студенческих тужурках, и что это очень нехорошо: в то подцензурное время и не по таким обывательским руслам приходилось унылому публицисту сплавлять залежи своего гражданского негодования. Но это было первое анонимное письмо в моей карьере, и еще с угрозой: очень я был польщен, и решил показать документ коллеге Штроку.
Письмо в конверте было от Маруси; она писала приблизительно так:
«…Каждое утро себя проверяю: помню ли, как называется этот город? Все боюсь его спутать не то с Суздалью, не то с Костромой: никогда не представляла себе, что можно сюда попасть, и еще по железной дороге; я думала, что это все только у Янчина в учебнике написано. Очень милый городок, приветливые люди, только они по-русски говорят ужасно смешно, как в театре; но на рыжих барышень на улице оглядываются, совсем как у нас. Да: представьте, я только после приезда по настоящему сообразила, что у меня нет права жительства: папа что то говорил об этом, но я торопилась успокоить маму (и сама тревожилась, как тут Лика устроится одна одинешенька на весь Ледовитый океан) — буркнула им, что все это улажено, и примчалась, и в тот же день меня позвали в участок. Принять святое крещение было некогда, поэтому я в беседе с приставом низко опустила девическую головку и исподлобья стрельнула в него глазками. Это у меня — исподлобья — самый убийственный прием, испытанное средство, et me voil, коренная пермячка, или как там они называются местные жители.