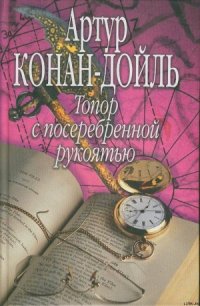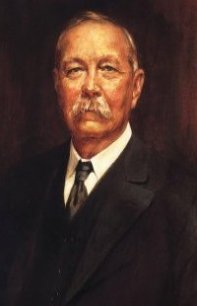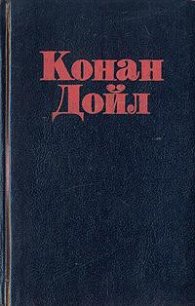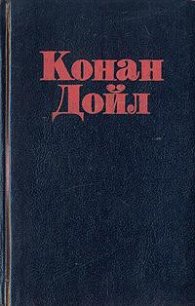Жена мудреца (Новеллы и повести) - Шницлер Артур (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений .txt) 📗
— А вот и дядя!…
И Казанова, словно желая наверстать упущенное, прошептал:
— Как жаль! С каким удовольствием я бы еще часами беседовал с вами, Марколина!
Он сам почувствовал, как при этих словах глаза его вновь загораются желанием, и Марколина, которая, несмотря на всю свою насмешливость, держала себя с ним почти доверчиво во время всего разговора, приняла замкнутый вид, и ее взгляд выразил прежнюю настороженность, даже прежнее отвращение, уже однажды так глубоко уязвившее Казанову сегодня.
«Неужели я и впрямь могу внушать такое отвращение? — со страхом спросил он себя. И тут же ответил: — Нет, дело не в этом; просто Марколина — не женщина. Она ученый, философ, пожалуй, даже чудо природы, только не женщина».
Однако при этом он знал, что лишь старается сам себя обмануть, утешить, спасти и что все его старания напрасны.
Перед ними стоял Оливо.
— Ну, разве это не была счастливая мысль, — обратился он к Марколине, — пригласить наконец к нам в дом гостя, с которым можно поговорить о таких высоких предметах, к каким тебя, вероятно, приохотили твои болонские профессора?
— Вряд ли даже среди них, дорогой дядя, найдется хоть один, — отвечала Марколина, — который бы осмелился вызвать на поединок самого Вольтера!
— Вот как, Вольтера? А шевалье вызвал его? — воскликнул Оливо, не поняв.
— Ваша остроумная племянница, Оливо, имеет в виду памфлет, которым я занят в последнее время. Так, любительский опыт в часы досуга. Прежде меня поглощали более важные дела.
Пропустив мимо ушей это замечание, Марколина сказала:
— Стало прохладно, и вам будет приятно прогуляться. До свидания!
Она слегка кивнула им и побежала по лужайка к дому.
Казанова удержался и не посмотрел ей вслед; он спросил:
— Синьора Амалия пойдет с нами?
— Нет, милейший шевалье, у нее много всяких дел по дому, и в этот час она обычно дает урок девочкам.
— Какая хорошая хозяйка и добрая мать! Вам можно позавидовать, Оливо!
— Да, я и сам каждый день себе это повторяю, — ответил Оливо, и на глазах у него показались слезы.
Они пошли вдоль торцовой стены дома. Окно Марколины было по-прежнему открыто. В глубине комнаты, погруженной в полумрак, белело легкое, как вуаль, платье. Они вышли по широкой каштановой аллее на дорогу, которая уже совсем погрузилась в тень, и стали медленно подниматься в гору вдоль садовой ограды. Там, где она поворачивала под прямым углом, начинались виноградники. Между высокими лозами, на которых висели тяжелые гроздья черно-синих ягод, Оливо повел своего гостя к вершине холма и с видом глубокого удовлетворения указал на свой дом, лежавший теперь довольно глубоко внизу. Казанове померещилось, будто в окне башни то мелькает, то вновь исчезает силуэт женщины.
Солнце клонилось к закату, но было еще очень жарко. По щекам Оливо градом катился пот, а у Казановы лоб оставался совершенно сухим. Постепенно удаляясь, они стали теперь спускаться и вышли на тучное поле. От одного оливкового дерева к другому тянулись виноградные лозы, между рядами деревьев покачивались высокие желтые колосья.
— Дары солнца в тысячеликом образе, — проникновенно произнес Казанова.
Оливо с еще большими подробностями, чем прежде, принялся рассказывать о том, как мало-помалу ему удалось приобрести это прекрасное именье и как обильный урожай плодов и злаков в течение нескольких лет сделал его зажиточным, даже богатым человеком. Но Казанова был занят своими мыслями и, лишь изредка подхватывая слово, сказанное Оливо, вставлял какой-нибудь вежливый вопрос, чтобы доказать ему свое внимание. Только когда Оливо, болтая о всевозможных вещах, заговорил о своей семье и, наконец, о Марколине, Казанова насторожился. Но он узнал немногим более того, что было ему уже известно. Еще ребенком, живя в доме отца, врача в Болонье, который приходился Оливо сводным братом и рано овдовел, она изумляла родных своими способностями, пробудившимися в самом юном возрасте, поэтому все давно привыкли к ее необычным наклонностям. Несколько лет назад умер ее отец, и с тех пор она живет в семье известного профессора Болонского университета, того самого Морганьи, который возымел дерзкое намерение сделать из своей ученицы крупного ученого. Летом она всегда гостит у дяди. Она отказала нескольким претендентам на ее руку — болонскому купцу, живущему по соседству землевладельцу, а совсем недавно — лейтенанту Лоренци и, по-видимому, действительно хочет посвятить себя только служению науке. Пока Оливо рассказывал обо всем этом, Казанова чувствовал, как безмерно растет в нем желание, и, сознавая, насколько оно безнадежно и безрассудно, был близок к отчаянию.
Едва они вышли с поля на проезжую дорогу, как из катящегося им навстречу облака пыли раздались приветственные возгласы. Показалась карета, где сидели хорошо одетый пожилой господин с более молодой пышной и накрашенной дамой.
— Маркиз, — шепнул Оливо своему спутнику. — Он едет ко мне.
Карета остановилась.
— Добрый вечер, дорогой Оливо! — воскликнул маркиз. — Не познакомите ли вы меня с шевалье де Сенгаль? Не сомневаюсь, что имею удовольствие видеть его перед собой.
Казанова слегка поклонился:
— Да, это я.
— А я — маркиз Чельси, а это — маркиза, моя супруга.
Дама протянула Казанове кончики пальцев; он прикоснулся к ним губами.
— Нам с вами по пути, дражайший Оливо, мы направляемся к вам, — сказал маркиз; его колючие зеленоватые глаза под густыми сросшимися рыжими бровями придавали всему его желтому, как воск, узкому лицу не весьма приветливое выражение. — Отсюда каких-нибудь четверть часа ходьбы до вашего дома, поэтому я выйду из кареты и пройдусь с вами пешком. Надеюсь, дорогая, ты согласишься проехать это небольшое расстояние одна? — обратился он к маркизе, все время не сводившей жадных глаз с Казановы; не дожидаясь ответа супруги, он махнул рукой кучеру, и тот сразу, как бешеный, стегнул лошадей, точно по какой-то неведомой причине хотел возможно быстрее увезти отсюда свою госпожу; карета тотчас же исчезла в облаке пыли.
— В наших местах уже распространилась весть, — сказал маркиз, бывший еще выше ростом, чем Казанова, и отличавшийся неестественной худобой, — что сюда прибыл шевалье де Сенгаль и остановился у своего друга Оливо. Должно быть, отрадно чувствовать, что носишь такое прославленное имя.
— Вы очень любезны, синьор маркиз, — ответил Казанова. — Во всяком случае, я еще не отказался от надежды приобрести такое имя, но покамест очень далек от этого. Труд, предпринятый мною как раз теперь, надеюсь, несколько приблизит меня к этой цели.
— Здесь можно сократить путь, — заметил Оливо и свернул на тропинку, которая шла полем прямо к садовой ограде.
— Труд? — повторил маркиз несколько недоуменно. — Позвольте спросить, какого рода труд вы имеете в виду, шевалье?
— Уж если вы меня об этом спрашиваете, синьор маркиз, то я, со своей стороны, принужден обратиться к вам с вопросом: о какого рода славе вы сейчас говорили?
При этом Казанова высокомерно посмотрел в колючие глаза маркиза. Ибо хотя он хорошо знал, что ни его фантастический роман «Икосамерон», ни его трехтомное «Опровержение истории венецианского правительства, написанной Амелотом» не принесли ему большой литературной славы, ему во что бы то ни стало хотелось показать, что ни к какой другой славе он не стремится, и он делал вид, будто не понимает никаких осторожно-пытливых замечаний и намеков маркиза, который, видимо, мог представить себе Казанову лишь знаменитым соблазнителем женщин, игроком, дельцом, политическим эмиссаром — кем угодно, только не писателем, тем более что ему никогда не приходилось слышать ни об «Опровержении сочинения Амелота», ни об «Икосамероне». Поэтому маркиз, слегка сбитый с толку, в конце концов вежливо заметил с некоторым смущением:
— Во всяком случае, есть только один Казанова.
— Вы опять-таки в заблуждении, синьор маркиз, — холодно возразил Казанова. — Я не единственный сын в семье, и имя одного из моих братьев — художника Франческо Казановы [53] — не пустой звук для знатока.
53
Франческо Казанова (1727–1808) — брат Казановы, художник-баталист и пейзажист. Его работы выставлены в картинных галереях Парижа, Лондона, в Государственном Эрмитаже.