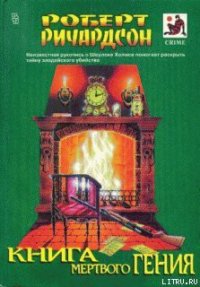Пармская обитель - Стендаль Фредерик (книги полностью .TXT) 📗
Родные сперва тщетно пытались узнать, кто этот «другой». Но горькие слезы, которые Анина проливала, слушая проповедника, навели ее дядей и мать на правильный путь, и они спросили, уж не влюбилась ли она в монсиньора Фабрицио. Анина смело ответила, что не станет унижать себя ложью, раз истина открыта, и добавила, что, не имея никакой надежды выйти замуж за обожаемого человека, она хочет по крайней мере, чтобы взгляд ее не оскорбляла глупая физиономия contina Расси. Через два дня смешное положение, в котором оказался сын человека, внушавшего зависть всей буржуазии, стало темой пересудов всего города. Находили, что Анина Марини ответила превосходно, и все повторяли ее слова. Во дворце Крешенци говорили об этом, как и везде.
В гостиной Клелия ни словом не коснулась этой темы, но расспросила свою горничную и в следующее воскресенье, прослушав раннюю обедню в домовой часовне, села в карету и поехала с горничной к поздней обедне в тот приход, где жила Анина Марини. В церкви она увидела всех блестящих городских щеголей, которых туда привлекла та же самая приманка. Кавалеры эти толпились у дверей. Вскоре по волнению, поднявшемуся среди них, маркиза догадалась, что в церковь вошла Анина Марини. С того места, где сидела Клелия, ей хорошо было видно Анину, и при всем своем благочестии она в этот день не уделяла должного внимания церковной службе. Клелия нашла, что у красавицы мещаночки слишком смелый вид, который, пожалуй, допустим только у дамы после нескольких лет замужества. Впрочем, сложена она была на диво, несмотря на небольшой рост, а глаза ее чуть что не говорили, как выражаются в Ломбардии, – до того красноречив был их взгляд. Маркиза уехала, не дожидаясь конца службы.
На следующий день друзья дома, собиравшиеся во дворце Крешенци каждый вечер, рассказывали о новой забавной выходке Анины Марини. Так как ее мать, опасаясь какого-нибудь сумасбродства со стороны дочери, давала ей очень мало денег, Анина сняла с руки великолепное бриллиантовое кольцо, подарок отца, и предложила знаменитому Гаецу, приехавшему в Парму для росписи гостиных во дворце Крешенци, написать ей за это кольцо портрет монсиньора дель Донго; но она потребовала, чтобы художник изобразил его в простой черной одежде, а не в облачении священника; и вот вчера маменька юной Анины, к великому своему удивлению и негодованию, увидела в спальне дочери превосходный портрет Фабрицио дель Донго в самой роскошной раме, какую приходилось золотить пармским ювелирам за последние двадцать лет.
28
Захваченные ходом событий, мы не успели дать хотя бы беглый набросок того смешного племени лизоблюдов, которыми кишел пармский двор и которые давали забавные комментарии к описанным нами событиям. В этой стране захудалый дворянин, имеющий три-четыре тысячи ливров дохода, мог удостоиться чести присутствовать в черных чулках на «утренних монаршьих выходах» при условии, что он никогда не читал ни Вольтера, ни Руссо, – условие это нетрудно было выполнить. Затем ему следовало с умилением говорить о насморке монарха или новом ящике с образцами минералов, присланном его высочеству из Саксонии. А если он вдобавок круглый год ходил к обедне, не пропуская ни одного дня, и насчитывал среди своих близких друзей двух-трех толстых монахов, то принц за две недели до нового года или две недели спустя милостиво обращался к нему с несколькими словами; это давало счастливцу большой вес в приходе, и сборщик налогов не осмеливался слишком прижимать его, если он запаздывал внести сто франков, – сумму ежегодного обложения его маленькой недвижимости.
Синьор Гондзо принадлежал к этой породе нищих царедворцев, весьма благородного звания, ибо, помимо маленького поместья, получил по протекции маркиза Крешенци великолепную должность с окладом в тысячу сто пятьдесят франков в год. Этот человек мог бы обедать у себя дома, но его одолевала одна страсть: он бывал доволен и счастлив только в гостиной какого-нибудь вельможи, который время от времени говорил ему: «Замолчите, Гондзо, вы просто дурак». Это суждение было продиктовано дурным расположением духа, так как по большей части Гондзо бывал умнее гневливого вельможи. Обо всем он говорил всегда уместно и довольно складно; более того – готов был мгновенно переменить мнение, если хозяин дома поморщится. Однако, по правде говоря, хотя Гондзо отличался удивительной ловкостью во всем, что касалось его выгоды, он не имел в голове ни единой мысли и, если у принца не бывало простуды, не знал, о чем повести разговор, войдя в гостиную.
Своей репутацией в Парме Гондзо был обязан великолепной треуголке с несколько облезлым черным пером, которую он носил даже при фраке. Но надо было видеть, с какой важностью он надевал эту оперенную треуголку на голову или держал ее в руке, – тут он проявлял истинный дар! Он с непритворной тревогой справлялся о здоровье комнатной собачки маркизы; а если бы во дворце Крешенци возник пожар, не побоялся бы рискнуть жизнью, чтобы спасти одно из красивых кресел, обитых золотой парчой, за которую в течение многих лет цеплялся черный шелк его коротких панталон, когда он случайно осмеливался присесть в них на минутку.
Каждый вечер в гостиной маркизы Крешенци к семи часам собиралось семь-восемь таких прихлебателей. Лишь только они рассаживались, входил великолепно одетый лакей в оранжевой ливрее с серебряными позументами, в красном камзоле, дополнявшем его пышный наряд, и принимал от них шляпы и трости; тотчас вслед за ним являлся второй лакей, приносивший кофе в крошечной чашечке на серебряной филигранной ножке, а каждые полчаса дворецкий, при шпаге и в роскошном кафтане французского покроя, обносил всех мороженым.
Через полчаса после облезлых лизоблюдов прибывало пять-шесть офицеров с зычными голосами и воинственной осанкой, обычно обсуждавших вопрос о количестве и размере пуговиц, которые необходимо нашивать на солдатские мундиры, для того чтобы главнокомандующий мог одерживать победы. В этой гостиной было бы опрометчивостью упоминать о новостях, напечатанных во французских газетах; даже если бы известие оказалось наиприятнейшим, как, например, сообщение о расстреле в Испании пятидесяти либералов, рассказчик тем не менее изобличил бы себя в чтении французских газет. Все эти люди считали верхом ловкости выпросить к своей пенсии каждые десять лет прибавку в сто пятьдесят франков. Так монарх делит со своим дворянством удовольствие царить над крестьянами и буржуа.
Главной персоной в гостиной Крешенци был бесспорно кавалер Фоскарини, человек вполне порядочный и поэтому сидевший понемногу в тюрьмах при всех режимах. Он состоял членом той знаменитой палаты депутатов, которая в Милане отвергла закон о налогообложении, предложенный Наполеоном [116], – случай весьма редкий в истории. Кавалер Фоскарини двадцать лет был другом матери маркиза и остался влиятельным лицом в доме. Он всегда имел в запасе какую-нибудь забавную историю, но от его лукавого взора ничто не ускользало, и молодая маркиза, чувствуя себя в глубине души преступницей, трепетала перед ним.
Гондзо питал поистине страстное тяготение к вельможам, говорившим ему грубости и раза два в год доводившим его до слез; он был одержим манией оказывать им мелкие услуги, и если б не подсекала его крайняя, закоренелая бедность, он иной раз мог бы преуспеть, ибо ему нельзя было отказать в известной доле хитрости и в еще большей доле нахальства.
Гондзо, при его качествах, разумеется, изрядно презирал маркизу Крешенци, так как ни разу в жизни не слышал от нее сколько-нибудь обидного слова, но в конце концов она была супругой достославного маркиза Крешенци, камергера принцессы, который, к тому же, раза два в месяц говорил Гондзо:
– Замолчи, Гондзо! Ты просто болван!
Гондзо заметил, что лишь только в гостиной речь заходила о юной Анине Марини, маркиза на мгновение пробуждалась от безучастной задумчивости, в которую обычно была погружена до тех пор, пока часы не пробьют одиннадцать, – тогда она разливала чай и сама подавала чашку каждому гостю, называя его по имени. Вскоре после этого она удалялась в свои покои, но перед уходом как будто оживала, становилась веселой, и как раз этот момент выбирали для того, чтобы прочесть ей новые сатирические сонеты.
116
В 1805 году в Милане законодательный корпус Итальянского королевства не согласился утвердить налоги, вводимые Наполеоном; в ответ на отказ Наполеон распустил палату.