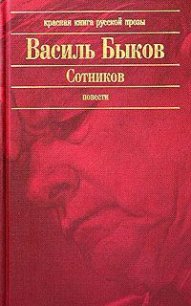Журавлиный крик - Быков Василь Владимирович (книги полностью .TXT) 📗
А мать в тот вечер долго не ложилась спать: все ждала сына. Она, конечно, сразу почувствовала его отчужденность и вздохнула, когда он, придя, молча завалился на кровать, потом всплакнула и сказала, что он еще мал и не понимает всего, что нужно было б понять. Какая-то жалость к матери на мгновение шевельнулась в его душе, но понять мать окончательно он действительно не мог, а главное — не хотел.
Что-то в нем ожесточилось, он утратил свою прежнюю искренность, избегал оставаться с ней наедине. И когда год назад мать привела в дом Кузьмиченкова и сказала, что он теперь будет их отцом, Василек понял: тут ему оставаться нельзя.
Два дня спустя он взял новую рубаху, зимнюю отцовскую шапку, три червонца полученных накануне денег и отправился на станцию. Там сел в пригородный поезд и приехал в Витебск. В его кармане лежала потрепанная газета с объявлением о приеме учащихся в школу ФЗО. Так Василь Глечик перешел на свой хлеб.
Дома он не сказал никому, куда поехал, за что и на кого обиделся. Мать, видно, немало пережила, пока отыскала его в Витебске, приехала, просила вернуться, а главное — не обижаться, но он молчал, ни слова не сказал ей при встрече, не отвечал на письма. В начале войны он узнал, что Кузьмиченков пошел в армию, а мать с Насточкой остались одни. И парень тогда заколебался. Он знал, что перед той бедой, которая неудержимо катилась на восток, ему надо быть ближе к матери, но прежняя обида нет-нет да и давала еще о себе знать.
Пока он взвешивал и раздумывал, немцы подошли к Витебску, и нужно было спасаться самому. Василек прицепился на станции к заднему вагону последнего поезда и, где пешком по шпалам, а где в эшелонах, добрался до Смоленска. Видно, в огромном людском горе растворилась и его обида. Осталось только болезненное сознание своей так поздно понятой несправедливости к матери…
Глухая тьма наконец целиком завладела сторожкой; потухли последние искорки в печке. Стало холоднее. Дружно посапывали красноармейцы, похрапывал старшина, а Глечик широко открытыми глазами смотрел во тьму. Завтра может настигнуть его беда, он может погибнуть. Это будет его первый бой с ненавистным врагом. Но не страх смерти, не жалость к себе терзали парня в эти последние минуты покоя.
— Мама, дорогая моя мамуля, — беззвучно шептал во тьме Глечик, — простишь ли ты когда-нибудь мое непослушание, мои глупые выходки? Почему я был тогда таким дурнем, зачем оставил тебя — родную, единственную мою? Как ты теперь там, во вражьем плену, одна? Что сделают с тобой кровавые изверги и кто заступится за тебя?..
11
Тем временем старшине Карпенко снился несуразный, тягостный сон.
Чудилось ему, будто вот в этой сторожке у печки, на том месте, где разлегся Витька Свист, сидит его, Григория Карпенко, отец. Строгий, озабоченный, сгорбленный от нелегкой житухи старик закручивает взлохмаченный седой ус, хрипловатым голосом говорит: «Вот что, сыны. Как себе хотите, а надел больше делать не будем. Пока я жив — не дам. Доделились — с сохой повернуться негде. Ляксей пусть живет, остальные геть в свет — своего хлеба искать».
И тут видит Карпенко: из тьмы выступают его братья — старший Алексей, хромой Ципрон, сварливый Никита, а с другой стороны он, младший, Гришка. Как и тогда, лет пятнадцать назад, злой, горластый Никита в ответ на отцовские слова сорвал с головы замусоленную от пота шапку и, ударив ею об землю, закричал: «Ага! Любимчику, старшенькому, черт его дери! А мы что? Куда мне четверых босяков девать? Куда? Говори, отец!» — бил себя кулаком в расхристанную грудь Никита.
Братья загудели, задвигались, недовольные отцом, вытянули жилистые руки и стали наступать на него, готовые растерзать сгорбленную фигуру у печки. Но отец сидел спокойный, строгий, лишенный всякого страха, словно чувствовал в себе какую-то магическую силу, способную защитить его. А он, Гришка, испугался и, бросившись к старику, заслонил его.
Тогда братья замахали длинными, как поломанный шлагбаум, руками, растопырили над ним костлявые, с отросшими ногтями пальцы, жадно потянулись к его шее.
«Ага, — шипел из тьмы голос Никиты. — Хорошо тебе: ты в армию пойдешь, до командира дослужишься, жалованье получишь, а мы что? Что мы-ы-ы?»
И вот костлявые пальцы брата ухватили Гришку за горло, сжали, он стал задыхаться, но отбивался как мог. А отец все сидел у печки и, наблюдая за дракой, противно хихикал: «Ага, ага! Вот так его, так-так, так…»
Григорий изо всех сил рванулся, выскользнул из сжавших его мертвой хваткой объятий и бросился прочь.
Потом что-то переменилось во сне, и он лежал уже за станковым пулеметом под огромным заснеженным валуном, на берегу того безымянного озера в Финляндии, где совершил свой первый воинский подвиг. За вторым таким же камнем притаился с «ручником» взводный — лейтенант Хиль. Больше из их роты не осталось никого, и они третьи сутки из двух пулеметов отбивались от финнов. Только теперь, во сне, на них почему-то наступали не лыжники особого батальона «Суоми», а немецкие эсэсовцы. Они ровной густой цепью бежали по заснеженному льду озера. Карпенко стрелял и стрелял, но его пули где-то пропадали, не причиняя врагу никакого вреда. Он спохватился, что не поставил на планке прицел, и тогда оказалось, что нет и самой планки, что ее срезало осколком, а пули из перегретого ствола падали на снег прямо перед самой его позицией. Ужаснувшись от мысли, что может попасть в плен, Карпенко схватил в обе руки по «лимонке» — они были последними — и с криком: «За Родину!» — замахнулся на врагов. И в этот момент послышался сзади хорошо знакомый ему простуженный голос командира батальона, который вчера оставил их здесь, на этом переезде: «Так их, так их, Карпенко!..»
Удивленный старшина повернулся на этот голос и почему-то увидел Овсеева, который спокойно выскребал из котелка остатки каши, сваренной Свистом, и говорил: «Ты чудак, командир. Зачем так артачишься? Давай лучше есть кашку с котлетами. Не видишь разве — это же наши».
Еще больше недоумевая, Карпенко всмотрелся в цепь на льду и понял, что это действительно шли наши, красноармейцы в буденовках, а Овсеев, облизывая ложку, продолжал: «Ну вот, командир, теперь у тебя медальку и отберут. Почему в своих стрелял?»
Измученный ужасами, старшина с опаской глянул на свою грудь, где рядом со значком «Отличник РККА» висела медаль «За боевые заслуги», и вдруг почувствовал там чью-то руку, ласково гладившую его. Он приподнял голову: рядом стояла Катя — Катерина Семеновна, его молодая жена, которая неизвестно как очутилась тут. Она гладила его грудь, отчаянно цепляясь за шею, и плакала, плакала, как в тот день, когда провожала его в военкомат — на вторую, куда более страшную, войну.
«Так смотри ж, — говорил Карпенко, большими рунами обнимая худые острые Катины плечи. — Родится, береги его…»
«Ой, родненький, никогда он для тебя уже не родится, — запрокинув голову; сквозь слезы причитала жена. — Погибнешь ты, пропадешь, любимый, хороший мой!..»
Это было невыносимо. Охваченный страхом, Карпенко напрягся, чтобы освободиться от него, и проснулся.
В сторожке царила слепая тьма. Мерно посапывал на полу Свист, где-то ровно и сдержанно дышал Овсеев. Карпенко спустил с топчана ноги. Тело его застыло от холода, который уже успел забраться в это дырявое помещение, и старшина зябко закутался в шинель. Он пощупал карманы, вытянул кисет, свернул цигарку. Зажигалка почему-то не загоралась, только высекала маленькие синеватые искорки, которые тут же и гасли. Карпенко сунул ее обратно в карман и осторожно, стараясь не наступить на кого-нибудь, пробрался к печке. Под пеплом еще кое-где тлели угольки. Старшина достал один и, взяв его пальцами, прикурил. Бумажный кончик цигарки вспыхнул ярким испуганным пламенем, осветив на мгновение сонное, нахмуренное лицо старшины, сверкнул в настороженных глазах лежавшего у печки Глечика. Старшина бросил уголь в печку, затянулся и снова пошел к топчану.
— Ты почему не спишь? — спросил он из темноты Глечика.