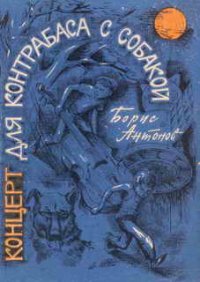Арбат, режимная улица - Ямпольский Борис Самойлович (книги регистрация онлайн TXT) 📗
Ритм свободный, раскованный, зазвучал в моих ушах.
И я вспомнил свои горы.
Мертвая замерзшая Мугань с окаменевшими от арб колеями и окаменевшими следами ночью пробежавшего сагайдака — глубокими и легкими, и со следами верблюда, его вялого корабельного шага, следами, в которых замерз легкий, панцирный, сам по себе трескающийся, как фарфоровые блюдца, зеленый ледок; еле различимые следы зайца. А на горизонте — лиловые горы.
Старенький „Форд" на высоких колесах, с поднятым брезентовым верхом, с кипящим, как чайник, радиатором, пыхтя, плюясь дымом, как горный козел перепрыгивая с бугра на бугор, вылетел в закрытую с трех сторон горами долину и покатился по старинной, обсаженной шелковицами аллее, мимо селений с глинобитными домиками, мимо ореховых и абрикосовых рощ.
Жизнь, казалось, остановилась тут много веков или тысячелетий назад. Навстречу медленно двигались огромные, черные, сильные буйволы. Они шли с таким усилием, словно тащили за собой эти горы. Их погонял молодой парень, покрикивая: „Йиок, йиок!"
Увидев машину, он остановил волов, и они тяжело стояли, опустив головы, — могучие, черные, крутолобые, исподлобья глядя на нас, и пена падала с их пепельных губ.
В долине было сухо, солнечно, догорали алым огнем виноградники, лозы устало склонялись к земле, ручьем текли желтые сухие листья чинар, низко стлался дым костров. А в горах лес уже стоял темный, каменный. И чем выше, тем суровее становилась природа. Теперь мы видели только сухой, будто вырубленный из скалы карагач, а еще выше уже и леса не было, вокруг поднимались бурые вершины с красными жилами железняка, и заброшенные сакли горных селений, и за ними закатное солнце. Ни единого цветка, ни единой травинки не видно было на ребрах гор, застывших в своем железном одиночестве, в своей первобытной, первозданной дикости, под пустынным небом.
Одинокие удары молотка отдавались в горах пулеметным эхом, стучал и стучал молоток, откалывая тяжелые красно-бурые куски железной руды, которые я подбирал и прятал в рюкзак.
В далеком том городке, где растут маргаритки и настурции, я никогда не задумывался над тем, откуда берется железо.
А потом выпал первый снег, в белое покрасил горы. В этом холодном туманном рассвете, на фоне гор, серо проступали бедные сакли, из труб которых валил сладкий кизячный дым; блеяли овцы и скучно лаяли собаки, выходили старики и старухи, тащили горшки, корыта, выбегали дети и прыгали через ручей, пахло свежим, только испеченным хлебом и козьим молоком, на дороге мерещились туманные фигуры, слышался скрип дальней арбы. Как было непохоже и одновременно похоже всеми звуками, всеми запахами, всем тем человеческим, домашним, семейным это далекое чужое горное утро на то, которое я знал и любил там, в той земле, где нет никаких гор. Как стеснилось, сжалось сердце, и вспомнилась мать, родной дом, сестры.
В тишине и покое белого утра слышны были глухие удары со стороны гор. Старик прикладывал к глазам ладонь, всматриваясь вдаль, чтобы понять, что там происходит — будто конь святого Али тяжело скакал по горам.
Я прохожу мимо старика, он смотрит на меня внимательно и отчужденно.
— Доброе утро! — говорю я и кланяюсь. Старик не шевелится, он величественно молчит, разглядывая меня.
— Доброе утро, дед, — говорю я, думая, что он не расслышал меня.
— Сулейман! — кричит он. Из сакли выбегает тонкий, смуглый, кудрявый мальчик. — Сулейман! — он пальцем показывает на меня, и мальчик бойко по-русски спрашивает меня: — Что надо?
Вдали прогрохотал то ли гром, то ли взрыв.
Старик прислушался и печально, недоуменно покачал головой. И казалось ему, что пришел конец света. И разверзнется земля, и исчезнут в ней горы вместе с саклями, с овцами, с кизячным дымом, со всем, что было до сих пор и к чему он привык с самых ранних лет своей памяти.
— А? Зачем? Зачем? — спросил он с удивительной для такого старика страстью.
Он видел джейрана, от взрывов пугливо убегающего в горы, птиц, тревожно машущих большими темными крыльями, и ящериц, выползающих из расщелин скал. Он видел то, чего мы не видели, чувствовал то, чего мы не чувствовали, и ему было жаль нарушенной жизни.
Однажды пошел дождь. Он лил день и ночь беспрерывно, он лил всю неделю, и нельзя было выйти из сакли. Казалось, разгневанный Бог заливает взрывы в горах, людскую жажду, посмевшую нарушить тысячелетний горный покой.
Старик выходил на улицу, смотрел на небо и с дьявольской улыбкой возвращался в саклю и молчал, и казалось, что он знает что-то такое, чего никто из нас не знает.
Иногда он смотрел на нас и говорил: „Ай-ай-ай". Словно жалел нас, словно насмехался над нашей глупостью и наивностью.
Но потом, ночью, все проснулись от необычной, стоявшей в горах тишины. Не слышно было уже привычного беспрерывного шума дождя, и тишина была тяжелой, застывшей, как эти окружавшие нас горы.
Мы вышли из сакли. Небо было чистое, яркое. Крупные звезды светили над горами.
Разведчики погрузили на маленького коренастого ослика теодолит, мешки с динамитом и разную поклажу и двинулись вслед за осликом по горной тропинке вверх к облакам.
Сумрачные облака качались рядом, подходили ближе и чуть приостанавливались, словно приглашая садиться, и, свободно качаясь, уходили.
Взошло солнце, облака засветились розовым, голубым, лиловым. И все вдруг сдвинулось с места, потекло. Пастухи погнали по склонам гор баранту, и сквозь прорывы облаков стали мелькать зеленые долины, открылись дальние села, сады, и дороги, и поезда, и дым поездов…
— Спасите! — истерически запричитали в соседней комнате, и вслед за тем залаяла собака.
Я постучал в перегородку, она была как мембрана и чутко воспринимала, передавала и даже усиливала все звуки.
— Товарищ Свизляк! — закричал я, и эхо откликнулось в соседней комнате гулко, как на площади во время парада, когда командующий объезжает войска.
— Товарищ Свизляк, вы бы потише немного радио.
— А я у себя в комнате, как хочу, так и регулирую. Теперь парадное эхо стояло уже в моей комнате.
— Но слышно-то ведь во всей квартире.
— Ну и что? От этого не болеют! — кричал Свизляк.
— А я не обязан выслушивать все инсценировки, — кричал я.
— Вот как! А что, вам не нравится?
— Просто не хочу слушать.
— Вот как, — повторил Свизляк, — это уже интересно.
— Все вам интересно.
— Мне, может, и нет, но кое-кому — да.
В тысячах тысяч таких же коммунальных квартир, в таких же тесных комнатках просыпались такие же, как я, холостые и семейные; и прошедшие войну солдаты, чудом выскочившие из нее целыми, полные сил, и раненые, контуженые, которым тяжело было в эту снежную мразь, ужасно было в это темное, зимнее утро, и точно так же мордатые дезертиры, ловкачи, бронированные и не забронированные, в свое время эвакуированные и не эвакуированные, которые сейчас, только проснувшись, уже звонили по телефону, набирали нужные им номера, стараясь поскорее урвать кусок побольше и послаще, пока другие не перехватили; и люди, которых сегодня будут прорабатывать, исключать на собрании, на тысячах тысяч собраний, и те, кто их будет пытать, кто будет председательствовать, писать резолюции и кто просто будет голосовать за исключение, не желая за это голосовать; и затравленные, забитые, со страхом ожидающие очередной кампании, и те, кто в это время на коне и про которых говорили: „Он в порядке", — все сейчас просыпались и для всех это серое утро было разным, и друг друга они не понимали и понять не могли и не хотели.
Сунув ноги в старые, стоптанные, еще партизанские унты, голый до пояса, я вышел в холодную, с замерзшими брызгами на цементном полу кухню умыться над раковиной. Обычно никто не оглядывался, стояли у своих индивидуальных, у своих золотых и бриллиантовых столиков, чистили картошку, рубили капусту, лепили котлеты. Не прощали они, нет, не прощали, что я имел карточку HP — и как бы про себя ворчали: „Подумаешь, научный работник".
Я слышал и не слышал…