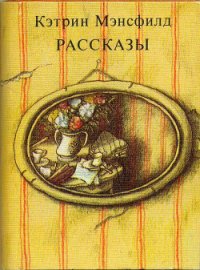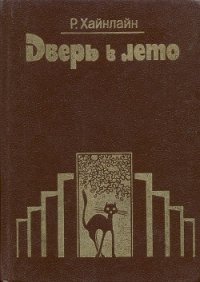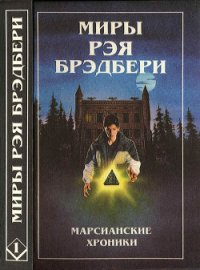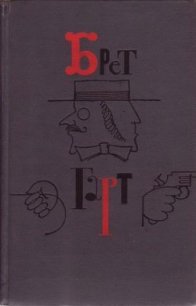Фридрих Дюрренматт. Избранное - Дюрренматт Фридрих (книга регистрации TXT) 📗
— Проваливай, Мани, — ревет трактирщик, — проваливай отсюда. — И бухается на колени. — Отче наш, сущий на небесах! — начинает он молиться, флётенбахцы тут же подхватывают молитву:
— Да святится имя Твое.
Только старый Гайсгразер катается по снегу, луна лопнет от натуги, гной ее зальет, затопит все вокруг, и настанет конец света; он воет, хохочет, ликует в безумии.
— Да приидет Царствие Твое, — молятся крестьяне.
А Мани словно не понял, что он свободен, он все так же неподвижно сидит на прежнем месте.
— Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Наконец Мани поднимается, и тут за огненно–красным язвенным нарывом проблескивает светлая искорка.
— Она опять появляется, — кричит Херменли Цурбрюгген. — Луна опять тут, луна!
Крестьяне вскакивают на ноги, единый крик радости исторгается из их груди, страх утихает, и тем быстрее, чем скорее растет яркая блестящая искра, превращаясь постепенно в старую добрую круглую луну.
— Рубите, — рычит трактирщик, и Рес и Бингу мощными ударами сотрясают дерево, вонзая топоры в ствол, а Мани, растопырив ноги, опять сидит, прислонившись к буку, на снегу, с которого медленно сходит зловещий кроваво–красный отблеск; вот топорами вновь замахали Луди и Хригу, а луна все щедрее сияет из–под кровавого нарыва, тающего в небе на глазах, и звезды исчезают, теперь подошел черед Хинтеркрахена и старого Цурбрюггена, а за ним Эбигера, Фезера, Эллена и Бёдельмана, а под конец все крестьяне, включая и трактирщика, подскакивают по очереди к буку и каждый по разу вскидывает топор — удар, следующий, опять удар; и когда блюттлиев бук падает, рухнув на снег, полный диск луны — огромный, круглый, ласковый, весь молочный, как до затмения, — льет на землю с небес свой мягкий серебристый свет.
Надо еще вытащить его из–под дерева, блюттлиев бук жуть какой здоровый, хлопочет трактирщик, Мани здорово размолотило всего, насколько тут что можно разобрать, каша сплошная. И потому в восемь утра, когда уже рассвело, трактирщик испытывает разочарование — Лачер не проявляет ни малейшего интереса к трупу, говорит только, он ему и так охотно верит, что Мани угодил под бук. Зачем же ему еще и на труп смотреть?
Впервые с той ночи, когда из кромешной зимней тьмы он шагнул в залу, Лачер вышел из своей комнаты и спустился вниз. На нем меховая шуба и унты, он сидит за длинным столом и пьет из огромной чашки кофе с молоком, напротив него — Фрида и Энни. Трактирщику кажется, что у Лачера дрожат руки, да и вид у него какой–то постаревший, вроде бы он и поседел, и бледный с лица.
Деньги наверху, кивает Лачер.
Трактирщик с грохотом кидается наверх, рывком открывает дверь, на столике под окном все так же лежит незапертый чемодан, хозяин «Медведя» откидывает крышку, деньги на месте. В кровати Лачера нежится его жена.
Мани угодил под бук на Блюттли, говорит он, не отрывая глаз от пачек денег, нужны были новые балки для часовни.
Они слышали здесь удары топоров, зевает Лизетта.
Трактирщик не мигая смотрит на деньги, потом начинает пересчитывать купюры — десять тысяч, десять тысяч, десять тысяч, нет, он чувствует, здесь что–то не так, десять тысяч, девять тысяч, еще раз девять тысяч, десять тысяч, восемь тысяч.
— Вы, бабы, взяли тут себе по тысяче, все до одной, каждая стянула по купюре!
Лизетта смеется:
— Мы тоже чего–то да стоим, а если вас это не устраивает, то и у нас могут развязаться языки.
Трактирщик захлопывает чемодан, уносит его в спальню, собираясь запереть его там, но тут ему приходит на ум, что у жены есть второй ключ от спальни, и тогда он спускается с чемоданом вниз.
Лачера в зале уже нет.
А где Ваути, спрашивает трактирщик у Энни, еще стоя на лестнице.
Она не знает, отвечает та, а когда он приказывает ей, марш на кухню мыть посуду, не может быть и речи, возражает она, что она там потеряла, тогда он рычит, набрасываясь на Фриду, хватит бездельничать, пора браться за работу, а та говорит, что уходит от него — она дочь миллионера и в ближайшем будущем станет к тому же невесткой другого миллионера, самого хозяина «Медведя», ведь она выходит замуж за Сему, так что работать она больше не собирается.
Пот льет с трактирщика ручьем, а сквозь маленькие оконца ему видно, как мимо проплывает «кадиллак».
Машина плавно покидает деревню и катит из долины вниз. У скалы, там, где дорога входит в лес, Лачер нагоняет жену мертвого Мани. Почти через сорок лет он вновь встречает Цурбрюггенову Клери. В руках у нее чемодан. «Кадиллак» останавливается. Она идет себе дальше. Он опускает стекло, высовывается из машины и говорит:
— Эй, Клери, садись.
Она останавливается, разглядывает его, потом произносит:
— Ну если уж ты меня приглашаешь, Ваути Лохер.
Он открывает правую дверцу, она кладет чемодан на заднее сиденье, садится рядом с Лохером и говорит:
— У тебя вид, как будто тебе сто лет.
— Мы оба состарились, — говорит Лачер. — Куда ты собралась? — спрашивает он, когда они уже въехали в лес.
— В Оберлоттикофен, искать работу, — отвечает она.
Машина осторожно спускается вниз.
Перед самым флётенбахским ущельем Лачер резко крутит руль, так что машина встает поперек дороги. Он выключает мотор. Молча смотрит перед собой.
— Клери, — говорит он потом. — Ты скрыла от меня, что ждала ребенка.
— Мы с Мани хотели пожениться, это были наши заботы, не твои, — отвечает она.
— И Мани это не остановило? — спрашивает он.
— Ребенок есть ребенок, — говорит она.
В полной задумчивости он молчит, наконец произносит:
— Так было лучше, что ты вышла замуж за Мани. Мы с тобой сделаны из одного теста, мы не подходим друг другу. — Он расстегивает шубу, потом молнии на синем и красном спортивных костюмах, высвобождает грудь. — Опять схватило, — говорит он. — Боль такая же, как полгода назад. — Он откидывается на спинку сиденья, руки повисают как плети. — Я только что из больницы. У меня был инфаркт.
Оба молчат.
Небо над белыми елями молочно–серое, местами сгустилось и светится от пробивающихся лучей, солнца, однако, нигде не видно.
Лачер медленно и плавно растирает себе правой рукой грудь.
— Признáюсь, что тогда, когда я ушел из деревни, я был в бешенстве, но злоба прошла уже здесь, прямо в лесу, и так мне вдруг захотелось покинуть все это, и эту страну, и всю безмозглую Европу. И вот там, за океаном, я стал богатым, честным или нечестным путем, лучше не спрашивай. Я никогда об этом не задумывался, и о женщинах меня не расспрашивай по ту сторону вонючего Атлантического океана, и о сыне тоже не надо, тот все унаследует после меня, хотя в десять раз больший негодяй, чем я. А вас в вашем медвежьем углу я давным–давно позабыл, да, по правде говоря, с тех пор, как я тогда отчалил из Флётигена, я никогда вас больше и не вспоминал, вы как исчезли из моей памяти.
Он молчит, с трудом шарит правой рукой, словно левая парализована, по двери с левой стороны, бесшумно опускает ветровое стекло, холодный и сырой воздух окутывает их, женщина рядом с ним — глубоким и дряхлым стариком — кажется вдруг совсем молодой.
— Прямо в самой середине колет, — говорит он равнодушным голосом, — боль от груди до самого подбородка. А в левой руке от плеча до кончиков пальцев.
Он умолкает, женщина рядом с ним сидит неподвижно, он даже не уверен, слышала ли она его.
— А потом меня хватил инфаркт, — продолжает Лачер, — не так сильно, как сейчас, но тоже достаточно крепко. И пока я неделями валялся в постели, у меня вдруг всплыла перед глазами деревня, не то чтобы кто–то один, а вообще деревня. Собственно, даже вот этот лес. Тогда я навел справки, впервые с тех пор повидал швейцарского консула. Потом прилетел в Цюрих и снял с одного из своих конто в банке четырнадцать миллионов.
Он задумывается.
— От доброты, пожалуй. Хотел вам как–то помочь встать на ноги, ну что такое четырнадцать миллионов? Но стоило трактирщику сказать, что ты была тогда от меня беременна, как меня вновь охватила бешеная злоба, и я поставил условие — тебе оно известно — убить Мани. Собственно, им следовало бы убить тебя, но настолько моей злости опять же не хватало, вот и пришлось отдуваться за всё Мани, а сейчас, когда вспоминаю тот вечер в «Медведе», я даже и не уверен, а была ли злость–то? Может, меня просто вновь обуяла нечеловеческая жажда жизни, тогда понятно и мое условие, потому что, пока хочется жить, хочется и убивать, не одними же юбками исчерпывается интерес к жизни — кто там только не перебывал у меня наверху за эти десять дней в моей постели, чтоб урвать одну или несколько тысчонок, а мне было совершенно наплевать, как наплевать и на то, кого они там убили. Могли убить кого угодно вместо Мани, я все равно на труп не смотрел, и если бы они даже никого не убили, я бы и так отдал им эти деньги.