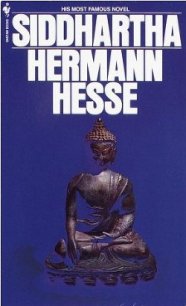Петер Каменцинд - Гессе Герман (книги без регистрации полные версии .TXT) 📗
Однажды в воскресный день мы с Рихардом забрели на маленькую выставку новых картин. Друг мой остановился перед небольшим полотном, изображавшим горное пастбище с несколькими козами. Это была прилежно написанная и довольно милая, однако несколько старомодная и, в сущности, лишенная художественной изюминки работа. Подобными картинками, красивыми и маловыразительными, изобилует любой салон. И все же мне было приятно увидеть весьма похожий образчик родного альпийского края. Я спросил Рихарда, что его так привлекло в этой картинке.
– А вот что, – ответил он и указал на подпись художника в углу холста. – Сама картина – не Бог весть какой шедевр. Есть и поинтереснее. Но вряд ли ты найдешь женщину поинтереснее той, которая ее нарисовала. Ее зовут Эрминия Аглиетти, и, если ты хочешь, мы можем завтра заглянуть к ней и сказать ей, что она великая художница.
– Ты ее знаешь?
– Еще бы. Если бы ее картины были так же хороши, как она сама, она бы давно уже разбогатела и бросила писать их. Она пишет их вовсе не из любви к живописи, а оттого лишь, что не выучилась ничему другому, чем могла бы себя прокормить.
Рихард тут же забыл об этой затее и вспомнил о ней лишь спустя две-три недели.
– Вчера мне повстречалась Аглиетти. Мы ведь, кажется, хотели ее навестить. Идем же! У тебя, я надеюсь, найдется свежий воротничок? Она всегда обращает на это внимание.
Воротничок нашелся, и мы вместе отправились к Аглиетти. Мне это стоило некоторого усилия над собою, ибо та свободная, несколько развязная манера обращения Рихарда и его товарищей с бабенками из художественной богемы и студентками всегда раздражала меня: мужчины были довольно бесцеремонны, то ироничны, то грубы; девушки же, прошедшие огонь, воду и медные трубы, были рассудительны и практичны, и ни у одной из них я не находил даже намека на тот благоуханный ореол целомудрия, который и делал женщин предметом моего преклонения.
Не без смущения переступил я порог ателье. Воздух живописных мастерских мне хорошо был знаком, но в женском ателье я оказался впервые. Оно имело довольно трезвый и очень опрятный вид. Три-четыре готовые картины в рамах висели на стенах, еще одна, едва начатая, возвышалась на мольберте. Оставшаяся часть стен была покрыта чистенькими, аппетитными карандашными эскизами; довершал обстановку полупустой книжный шкаф. Хозяйка холодно выслушала наши слова приветствия. Она отложила в сторону кисть и, не снимая фартука, прислонилась спиной к шкафу; по всему видно было, что у нее нет охоты попусту терять с нами время.
Рихард принялся осыпать ее немыслимыми комплиментами по поводу выставленной картины. Она высмеяла его и велела ему замолчать.
– Но позвольте, фройляйн, а вдруг я имею намерение приобрести картину! Кстати, коровы на ней показаны с такою истинностью, что…
– Там же козы, – спокойно произнесла она.
– Козы? Ну конечно же, разумеется, козы! Да, так вот я хотел сказать, с такою основательностью, что я был совершенно поражен. Эти козы – они выглядят так живо, так естественно, я бы сказал, так… по-козьи! Спросите моего друга Каменцинда, он сам дитя гор; он непременно согласится со мною.
Я, все это время смущенно и в то же время со скрытым весельем слушавший его болтовню, вдруг почувствовал на себе быстрый, но внимательный взгляд художницы. Она изучала меня долго и беззастенчиво. – Вы горец?
– Да, фройляйн.
– Это заметно. Ну, а что вы скажете о моих козах?
– О, они определенно хороши. Во всяком случае, я не принял их за коров, как Рихард.
– Это очень мило с вашей стороны. Вы музыкант?
– Нет, студент.
Больше она не сказала мне ни слова, и я, воспользовавшись тем, что меня оставили в покое, смог ее как следует рассмотреть. Фигуру ее искажал длинный фартук, а лицо показалось мне некрасивым: очерк его был чересчур резок и лаконичен, в глазах сквозила строгость, зато волосы у нее были пышные, черные и мягкие. То, что меня в ней неприятно поразило и даже показалось мне отталкивающим, – был ее цвет лица. Он решительно напоминал мне итальянский сыр горгонцблу, и я бы не удивился, если бы вдруг разглядел на ее коже зеленые прожилки. Я еще никогда не видел этой романской бледности, а в неверном утреннем свете ателье лицо Аглиетти казалось еще более бескровным, высеченным из камня – но не из мрамора, а из обветренного, выбеленного временем песчаника. К тому же я, не привыкший исследовать женские лица на предмет их форм, всегда по-мальчишечьи наивно искал в них прежде всего нежного блеска, румянца, юной прелести.
Рихард тоже был разочарован нашим визитом. Тем более удивлен я был, или вернее испуган, когда он спустя некоторое время сообщил мне, что Аглиетти просит меня оказать ей честь, согласившись позировать ей. Речь идет якобы всего лишь о нескольких набросках; лицо мое ей не нужно, зато в моей широкой фигуре есть что-то типическое.
Однако, прежде чем мы вновь вернулись к этому разговору, произошло небольшое событие, резко изменившее мою жизнь и на долгие годы определившее мою дальнейшую судьбу. Проснувшись в одно прекрасное утро, я обнаружил, что стал писателем.
Поддавшись настойчивым уговорам Рихарда, я, исключительно с целью улучшения своего стиля, начал от случая к случаю описывать в виде набросков и по возможности достоверно различные характеры из нашего окружения, интересные беседы, небольшие происшествия и тому подобное, а также написал несколько очерков по литературе и истории. И вот однажды утром – я еще был в постели – ко мне вошел Рихард и положил на мое одеяло тридцать пять франков.
– Это твое, – деловито произнес он.
И только когда я, исчерпав все свои догадки, взмолился, он достал из кармана газету и показал мне напечатанную в ней одну из моих новелл. Затем он признался, что, переписав несколько моих рукописей, тайком отнес и продал их для меня знакомому редактору. И первую, которую тот успел напечатать, а также гонорар за нее я и держал теперь в руках.
Никогда еще не испытывал я такого странного чувства. Я, конечно же, был зол на Рихарда за его дерзкие игры с провидением, однако сладкая, горделивая радость первой публикации, деньги, полученные нежданно-негаданно, словно в подарок, и, наконец, мысль о возможной маленькой литературной славе оказались сильнее и заглушили мою досаду.
В одном из кафе мой друг свел меня с упомянутым редактором. Тот попросил разрешения оставить у себя показанные ему Рихардом другие мои работы и предложил мне время от времени присылать ему новые материалы. В моих вещах якобы чувствуется собственный голос, особенно в исторических, которых он был бы рад получить побольше и за которые готов хорошо заплатить. Теперь и я наконец понял, что дело принимает серьезный оборот. Я не только смог бы регулярно и лучше питаться и возвратить все свои маленькие долги, но и бросить навязанный мне курс и, может быть, в скором времени, посвятив себя любимой своей области, я смог бы добывать себе пропитание исключительно собственным трудом. Пока что, однако, редактор этот прислал мне целую стопку книг для рецензирования. Я принялся за них с остервенением и не замечал, как летят недели; поскольку же гонорары выплачивались лишь в конце квартала, а я в расчете на них все это время позволял себе больше, чем обычно, то в один прекрасный день я распрощался с последним раппеном и принужден был начать очередную голодовку. Пару дней я продержался в своем скиту под крышей на хлебе и кофе, потом голод загнал меня в одну кухмистерскую. С собою я прихватил три рецензируемые мною книжки, чтобы оставить их вместо платы по счету в качестве залога. До этого я тщетно пытался всучить их антиквару. Обед был превосходен, но, когда подали черный кофе, сердце мое тревожно заныло. Я робко признался кельнерше, что у меня не оказалось с собой денег, но я готов оставить в залог книги. Она взяла одну из них в руки – это был томик по истории, – полистала ее с любопытством и спросила, нельзя ли ей пока прочесть это: она так любит читать, а книги попадают к ней в руки так редко. Я почувствовал, что спасен, и поспешно предложил ей оставить себе все три томика вместо платы. Она согласилась и приобрела у меня с тех пор таким способом в несколько приемов книг на семнадцать франков. За небольшие томики по истории я получал обычно порцию сыра с хлебом, за романы – примерно то же самое с вином; отдельные новеллы стоили чашку кофе с хлебом. Насколько мне помнится, это были в большинстве весьма посредственные вещи, написанные в судорожно-новомодном стиле, и у простодушной девушки должно было сложиться довольно странное впечатление о современной немецкой литературе. Я с улыбкою вспоминаю те предобеденные часы, когда я в поте лица своего торопился галопом дочитать очередной том и записать о нем пару строк, чтобы покончить с ним до обеда и обменять его на что-нибудь съестное. От Рихарда я заботливо скрывал свои денежные затруднения, совершенно напрасно стыдясь их, и помощь его принимал скрепя сердце и всегда лишь на очень короткое время.