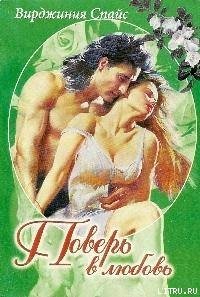Миссис Дэллоуэй - Вулф Вирджиния (читать книги онлайн бесплатно регистрация TXT) 📗
Да, думал Питер Уолш, невольно попадая с ними в ногу, превосходная выучка. Но тут были отнюдь не богатыри. В основном щуплые, не старше шестнадцати лет, и завтра, очень возможно, они будут стоять за прилавком, торгуя мылом и рисом. Теперь же их всех, отреша от мирской сутолоки и сердечных забав, осеняла торжественность венка, который они несли из пригорода возлагать на пустую гробницу. Они священнодействовали. И улица их уважала; фургоны не пропускались.
Нет, за ними не угонишься, подумал Питер Уолш, когда они вышагали по Уайтхоллу, и, разумеется, они прошли дальше, мимо него, мимо всех, ровно, твердо, будто единая воля двигала в лад руки и ноги, покуда жизнь, вольная и безалаберная, была не видна из-за венков и статуй и силою дисциплины вгонялась в застывший, хоть и глазеющий труп. Этого нельзя не уважать; пусть это даже смешно, да, но не уважать нельзя, думал он. Идут-идут, думал Питер Уолш, остановясь на краю тротуара. А все величавые статуи – Нельсона, Гордона, Хэвлока, – черные, гордые образы доблестных воинов меж тем устремляли взоры в пространство, будто и они пошли на такое же самоотречение (Питеру Уолшу казалось сейчас, что и сам он пошел на это великое самоотречение), одолели те же соблазны, чтоб наконец-то обрести эту пристальность каменных взоров. Он-то, Питер Уолш, на каменный взор нисколько не притязал. Хоть в других уважал его. В мальчиках тоже. Они еще не познали мучений плоти, подумал он, когда марширующие юнцы канули в сторону Стрэнда, ну, а мне досталось, подумал он, и перешел через дорогу, и остановился у памятника Гордону, Гордону, которого мальчишкой боготворил; Гордон стоял сиро, выставив одну ногу и скрестив на груди руки. Бедняга Гордон!
И оттого, что ни одна душа, кроме Клариссы, не знала, что он в Лондоне, и земля после парохода казалась все еще островом, ему сделалось до ошеломления странно, что вот он один, живехонек, никому не ведомый стоит в половине двенадцатого на Трафальгар-сквер. Да что это? Где я? И зачем, в конце концов, это все? – думал он. Развод показался вдруг совершеннейшим вздором. И мысль распласталась болотом, и три чувства нахлынули: снисхождение, любовь ко всем и – как их результат – захлестывающий восторг, будто кто-то в мозгу его дернул веревки, открыл шторы, он же стоял в это время сам по себе, но перед ним распростерлись бесконечные улицы – иди по какой пожелаешь. Давно уж не чувствовал он себя таким молодым.
Спасен! Избавлен! – так бывает, когда привычка вдруг рушится и дух разгулявшимся пламенем ширится, клонится и вот-вот сорвется с опор. Давно уж не чувствовал я себя таким молодым, думал Питер Уолш, спасенный от того (на часок на какой-то, конечно), от чего никуда не денешься, от самого себя, – как ребенок, который улепетнул из дому и видит на бегу, как старая няня куда-то наугад тычет рукой из окошка. Но до чего же прелестна, подумал он, ибо Трафальгар-сквер в направлении к Хэймаркету пересекла молодая женщина и, проходя мимо памятника Гордону, роняла вуаль за вуалью, как показалось Питеру Уолшу при его впечатлительности, пока не сделалась тем, что всегда мечталось ему, – юная, но статная; веселая, но сдержанная; темноволосая, но обворожительная.
Приосанясь и украдкой поигрывая перочинным ножом, он устремился за нею, этой женщиной, этой радостью и находкой, которая, даже и поворотя ему спину, обдавала светом, объединяющим их, выделяющим его из множеств, будто сама истошно-громкая улица, сложив рупором руки, нашептывала его имя, не Питер, нет, но то интимное имя, каким он сам себя называл в собственных мыслях.
«Ты», говорила женщина, просто «ты», говорили ее белые перчатки и плечи. Вот легкий длинный плащ встрепенулся от ветра возле магазина издательства «Дент» на Кокспер-стрит и взмыл с печальной, облекающей нежностью, будто принимая в объятья усталого…
Э, да она не замужем; молоденькая, совершенно молоденькая, подумал Питер Уолш, когда красная гвоздика, которую он у нее еще раньше заметил на Трафальгар-сквер, снова полыхнула ему в глаза и ярко окрасила ее губы. Вот она остановилась у края тротуара. Ждет. В осанке – какое достоинство. Она не светская, не то что Кларисса. И не богатая, не то что Кларисса. Интересно, подумал он, когда она снова пошла, а она из хорошей семьи? Она остроумна, у нее острый, жалящий язычок, думал он (почему же не пофантазировать – легкая вольность не возбраняется), ее остроумие сдержанно, метко, она не шумлива.
Пошла. Перешла улицу. Он за нею. Он, натурально, не собирается ей докучать. Но если сама остановится, можно сказать: «Пойдемте-ка есть мороженое», почему не сказать, и она, не кривляясь, ответит: «Отчего ж».
Но его обгоняли, мешали, заслоняли ее. Он не отставал. Она повернула. Щеки у нее разгорелись, у нее смеялись глаза. А он был смельчак, удалец, быстрый, бесстрашный (только вчера из Индии), отважный пират, и плевать ему было на все эти штуки, желтые халаты и трубки, и эти их удочки, и на их респектабельность, на все их приемы, на лощеных старикашек в белых галстуках и жилетах. Он был отважный пират. А она шла и шла, по Пиккадилли, по Риджентс-стрит, шла впереди, и плащ ее, перчатки и плечи сочетались с кружевами, оборками, перьевыми боа, и дух роскоши и причуд нисходил на нее с витрин, как ночью свет фонаря плывет, подрагивая, над сонной травою.
Веселая, восхитительная, она пересекла Оксфорд-стрит и Грейт-Портленд-стрит и свернула в какую-то узкую улочку и – вот, вот он, торжественный миг, да, она замедлила шаг, открыла сумочку, бросила взгляд в его сторону, но мимо, сквозь, и взгляд был прощальный, последний и подводил итог, победный итог, и она вынула ключ, открыла дверь и исчезла! Клариссин голос: «Мой прием не забудь!» – звенел у него в ушах. Дом был из красных унылых домов в цветочных висячих горшках по фасаду, не слишком хорошего тона. Что ж, с этим кончено.
Зато позабавился. Все равно позабавился, думал он, поднимая глаза на качающиеся в горшках бледные гераньки. И вот – вдребезги эта забава; потому что он в общем-то сам ее сочинил, ясно же, он от начала и до конца сочинил дурацкую вылазку с этой девицей; сочинил, как мы все почти сочиняем, думал он. Сочиняем себя. И ее. Прелестные увеселения и кое-что посерьезней. Но вот что странно – и верно: ни с кем ничего не разделишь – все разбивается вдребезги.
Он повернул. Пошел обратно и стал думать, где б приземлиться, пока не пора еще в «Линкольнз инн», к господам Грейтли и Хуперу. Куда ж податься? А, не важно. Ладно, значит, в Риджентс-Парк. И ботинки выбивали по тротуару «не важно»; потому что в самом деле оставалась еще бездна времени, бездна времени.
Утро меж тем стояло прелестнейшее. Как пульс при исправном сердце, ровно билась в улицах жизнь. Без запинок и перебоев. Гладко, четко, точно, бесшумно, с раскату, секунда в секунду у двери остановился автомобиль. Девушка в шелковых чулках и в оперенье, воздушная, но не слишком в его вкусе (да и все позади, позади) выпорхнула из автомобиля. Вышколенные дворецкие, рыжие чау-чау, холлы, черно-бело выложенные ромбами, упруго вздутые белые шторы – все это глянуло на Питера через отворенную дверь и понравилось. Великолепное, в сущности, достижение – Лондон, летом особенно; цивилизация, да.
Происходя из почтенной англо-индийской семьи, по крайней мере три поколения которой ведали делами Индии (странно, почему я думаю об этом с сентиментальностью, я не люблю ведь Индию, империю, армию), минутами он ценил цивилизацию – даже в таких ее проявлениях – как свою собственность; На него находило; и тогда он гордился Англией; дворецкими, чау-чау, недосягаемыми девицами. Смешно, а вот поди ж ты, думал он. И доктора, предприниматели и умные женщины, спешащие по делам, точные, целеустремленные, крепкие, были, ей-богу, прелестны, свои люди, кому можно без страха доверить жизнь, с кем славно шагать нога в ногу по жизни, кто поддержит тебя в беде. В общем, вполне интересный спектакль, и оставалось только найти, где б в тени присесть с сигарой.
Вот и Риджентс-Парк. Да. Мальчишкой я гулял в Риджентс-Парке – странно, думал он, и что это мне все время лезет в голову детство? Наверное, потому, что повидался с Клариссой; женщины больше живут прошлым, думал он. Они привязаны к местам. И к отцам. Каждая женщина гордится отцом. Бортон – чудное место, дивное место, но я не ладил со стариком, думал он. Как-то вечером разразился даже скандал, вышел спор, он не мог уже вспомнить, из-за чего, из-за политики, кажется.