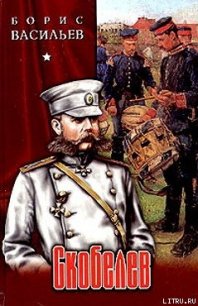Не стреляйте в белых лебедей - Васильев Борис Львович (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
— Спасите, родненькие! Три ста рублей стребовали!
— По закону, — сказал Федор Ипатыч и вздохнул круто. — Закон, Тина, не объегоришь.
— По миру ведь пойдем-то! По миру, сестрица!
— Ну уж, чего уж зря уж. С нас вон тоже требуют. И не три сотни, куда поболее. Так не бегаем ведь, в ногах не валяемся. Так-то, Харя моя миленькая, так-то.
Весь день Харитина куда-то металась, кому-то плакалась, да так ни с чем домой и вернулась. Крутилась-вертелась, а день прошел — и словно не было его: все на своих местах осталось. И мотор на дне, и три сотни на шее, и муж у поросенка, и Колька в чужом дому.
За ночь Егор ушат высушил, проспался и к утру окончательно вернулся в образ. Вышел из сараюшки тише прежнего, хотя тише вроде и некуда уже было. А Харитина, за ночь в хвощ высохнув, тоже вдруг потишела и об одном лишь упрашивала:
— Ты вспомни, где был-то, Егорушка. С кем пил да как шел потом…
Кое-что она, правда, знала: не от Кольки — тот молчал насмерть. Только голову отворачивал. От Вовки-племянника:
— Туристы ему поднесли, тетя Тина.
— Туристы?.. — Мутно было в голове у Егора. Мутно, пусто и неуютно: словно все мысли впопыхах в другой дом съехали, оставив после себя рухлядь да мусор. — Какие такие туристы?
— Ты к Сазанову иди, к Якову Прокопычу, Егорушка. Он все знает. И мотор этот найди. Господом с богородицей тебя заклинаю и детьми нашими: найди!
Полдня Егор «Ветерок» тот да бачок с уключинами на дне искал. Нырял, шарил, бродил по воде, дно ногами ощупывая. Трясся в ознобе на берегу, выкуривал цигарку, снова в воду лез. Не помнил он, где лодку-то перевернул, а указать некому было: турист тот уже на Черном озере рыбкой баловался. И, продрогнув до костей да пачку махорки выкурив, Егор прекратил ныряния. Уключину в тине нашел да два весла в тростниках и с тем к Якову Прокопычу и прибыл.
— Дайте лодку, Яков Прокопыч. С лодки я багром нащупаю, а то знобко. Сильно знобко там ногами-то тину топтать.
— Нет тебе лодки, Полушкин. Из доверия ты моего вышел. Доставай имущество, тогда поглядим.
— Куда поглядим-то?
— На твое дальнейшее поведение.
— В больнице будет мое поведение. Холод ведь, Яков Прокопыч. Обезножу.
— Нет, Полушкин, и не проси. Принцип у меня такой.
— Ничего с вашим принципом не сделается, Яков Прокопыч. Богом клянусь.
— Принцип, Полушкин, это, знаешь…
— Знаю, Яков Прокопыч. Все я теперь знаю.
Покивал Егор, постоял, повздыхал маленько. Заведующий опять занудил чего-то — длинное, унылое, — он не слушал. Смахнул с белых ресниц две слезинки непрошеных, сказал вдруг невпопад:
— Ну, катайтесь.
И зашвырнул ту единственную уключину, что полдня искал, обратно в воду. И — пошел. Яков Прокопыч вроде онемел сперва, вроде поглупел с внешности, вроде челюсть даже отвесил. Потом только заорал:
— Полушкин! Стой, говорю, Полушкин!.. Остановился Егор. Поглядел, сказал тихо:
— Ну, чего орешь, Сазанов? Триста рублей начету на меня? Будут тебе триста рублей. Будут. Это уж мой такой принцип.
Домой шагал, под ноги глядя. И дома глаз не поднимал: бровями белесыми занавесился, и как Харитина ни старалась, взгляда его так и не встретила.
— Не нашел, Егорушка? Мотор тот не сыскал, спрашиваю?
Не ответил Егор. Прошел к столу кухонному, ящик из него выдернул и вывалил все ложки-плошки прямо на столешницу.
— Еще полденька у нас, полденька, Егорушка, завтрашних. Может, вместе пойдем искать? Может, донышко все ощупаем?
Молчал Егор. Молча ножи осматривал: какой меньше гнется. Выбрал, брусок с полки достал, плюнул на него и начал жало ножу наводить. Обмерла Харитина:
— Ты зачем ножичек-то востришь, Егор Савельич?
Молча шаркал Егор ножом по брусочку: вжиг да вжиг. И брови в линию свел. Выгоревшие брови были, нестрашные, а свел.
— Егор Савельич…
— Воду вскипяти, Харитина. И тазы готовь.
— Это зачем же?
— Кабанчика кончать буду. Харитина наседкой вскинулась:
— Что?!
— Делай, что велел.
— Да ты… Ты что это, а? Ты опомнись, опомнись, бедоносец несчастный! Кабанчика под нож пустим, чем зиму прокормимся? Чем? Подаянием Христовым?
— Я тебе все сказал.
— Не дам! Не дам, не позволю! Люди добрые!..
— Не ори, Харитина. У меня тоже свой принцип есть, не у него одного.
Сроду он этих кабанчиков не колол: всегда просил у кого глаз пожестче… А тут озверел словно: всхлипывал, вздрагивал, ножом бил, не глядя. Все горло кабанчику исполосовал, но кончил. И кабанчик тот сразу у них просолился, потому что слезы на него из четырех глаз капали.
Хорошо еще, Кольки не было. У учительницы Колька отсиживался, у Нонны Юрьевны. Спасибо, добрая душа встретилась, хотя и девчоночка совсем еще одинокая. Из города.
К ночи разделали: мясо в мешки увязали, потроха себе оставили. Взвалил Егор мешки на загорбок и в ночь на станцию ушел. Надеялся в город к рассвету попасть и занять на рынке местечко какое побойчей, потому как на собственную бойкость уже не рассчитывал. И так не больно-то боек мужик был, а теперь и подавно: вглубь вся живость его ушла, как рыба в холода.
— Да уж, стало быть так, раз оно не этак!
7
Так случилось, что Колька Полушкин ни разу в жизни ни с кем всерьез не ссорился. Ни поводов не встречалось, ни драчливых приятелей, и хоть боли самой разнообразной натерпелся предостаточно, боль эта только тело задевала. А вот душу никто еще доселе не трогал, никто не задевал, и потому к обидам она была непривычна. Нетренированная душа у парня была: большом, конечно, недостаток для жизни, если жизнь эту мерками дяденьки его отмерять, Федора Ипатовича Бурьянова.
Но Колька своими мерами руководствовался, и поэтому отцовская оплеуха угольком горела в нем. Горела и жгла, не затухая. Пустяк, казалось бы, чепуховина: родная ведь рука по загривку прошлись, не соседская. Станешь объяснять кому, засмеют:
— Не блажи, малец! На отца ведь кровного губы-то дуешь, сообрази.
Но одного соображения тут, видно, было недостаточно, как Колька ни соображал. Чего-то еще требовалось, и потому он, от слез ослепнув, пошел туда, где— верил он — и без соображений все поймут, разберутся и помогут.
— А они говорят: «Дай ты ему леща!» А он и ударил.
Нонна Юрьевна хорошо умела слушать. Глядела как на взрослого, всерьез глядела, и именно от этого взгляда Колька оковы вдруг все растерял и заплакал навзрыд. Заплакал, уткнулся Нонне Юрьевне в коленки лбом, и она утешать его не стала. Ни утешать, ни уговаривать, что, мол, пустяки это все, забудется: отец же приложил, не кто-нибудь. Очень Колька разговоров сейчас боялся, но вместо разговоров Нонна Юрьевна сладким чаем его напоила, лекарства дала и спать уложила:
— Завтра, Коля, разговаривать будем.
Наутро Колька немного успокоился, но обида не прошла. Она, обида-то эта, словно внутрь него залезла, так залезла, что он мог теперь на обиду эту как бы со стороны глядеть. Будто в клетке она сидела, как зверек какой. И Колька все время зверька этого неуживчивого в себе чувствовал, изучал — и не улыбался. Дело было серьезным.
— Если бы он сам собой меня ударил. Ну, сам собой, Нонна Юрьевна, от досады. А то ведь подучили. Зачем же он до этого себя допускает? Зачем же?
— Но ведь добрый же он, отец-то твой, Коля. Очень добрый человек. Ты согласен?
— Ну, так и что, что добрый?
Нонна Юрьевна не спорила: спорить тут было трудно, так как этот-то предмет Колька знал куда лучше. Намекнула осторожно: может, с отцом переговорить? Но Колька намек этот встретил воинственно:
— А кто виноват, тот пусть первым и приходит!
— Можно разве от старших такое требовать?
— А раз старший, так пример показывай: так ведь вы учили? А он какой пример показывает? Будто он крепостной, да? Ну, а я крепостным ни за что не буду, ни за что!
Вздыхала Нонна Юрьевна. Где-то там, в недосягаемом, почти сказочном Ленинграде, осталась одинокая мать-учительница. Единственная из большой, шумной семьи пережившая блокаду и в мирные дни потерявшая мужа. Такая же тихая, старательная и исполнительная, как и Нонна Юрьевна: велено было дочери после учебы ехать сюда, в глухомань, на работу, — только поплакала.