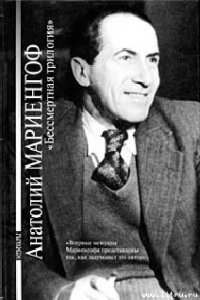Бритый человек - Мариенгоф Анатолий Борисович (читать книги онлайн регистрации TXT) 📗
А вот и конец истории: моя лошадь шарахается в сторону и удивленно, по-человечьи, скашивает глаза. Кобыла Лео длинноногая, черная, как еврейка, поднимается на дыбы и отмахивается, словно руками, от этого ужаса. Третья лошадь чувствует себя превосходно: играя порожним седлом, она перескакивает через канаву в траву.
У Лидии Владимировны вместо головы — кровавая лепешка. Серые, рассыпавшиеся волосы забрызганы кровью, костями, мозговой мякотыо и черным фетром. Маленькая рука в молочной перчатке сжимает ивовый прут. Полчаса тому назад, поднося почтительно эту теплую, даже сквозь перчатку, руку к губам, я спросил:
— Разрешите, Лидия Владимировна, снять чулочки с пальчиков? Она улыбнулась моему другу глазами, украденными у госпожи Пушкиной.
— Разрешается?
Она была натоплена счастьем, как маленькая деревенская банька.
Лидия Владимировна лежала на спине, сжав колени. Выпавшая из пудреницы пуховка плакала гильотинированным одуванчиком в кровавой луже. Земля была влажная, глинистая. Она всасывала кровь медленно, смакуя ее, как старое вино.
Небо высокое, голубое. Немецкий аэроплан казался крылатым амуром, что вооружен луком и веселыми стрелами.
На голубое небо в пяти-шести местах упали очень милые снежинки, — не хочется думать, что это шрапнельные разрывы. Наши зенитные орудия обстреливали немца лениво, наперед зная, что проку не будет. А тот летал тоже без толку, прогулки ради (как петербургская дама по солнечной стороне Невского проспекта) — не пропадать же хорошему дню: почему не прогуляться за пятнадцать верст до ближайшего тыла противника, где, к несчастью, был расположен штаб нашей инженерно-строительной дружины, находившейся в ведении общественных организаций — земских и городских.
Лидия Владимировна была убита упавшим «стаканом», посланным от нечего делать русским артиллеристом в небо.
Я кричу:
— Лео! Лео! Лео!
Его кобыла бросает мне в глаза копыта. Я вижу, как он рассекает ей голову промеж ушей стеком и рвет блестящее брюхо, шпорами. Кобыла вытягивается в карандаш. А ему, по всей вероятности, кажется, что она плетется мелкой рысью.
Я еще продолжаю на что-то надеяться:
— Лео! Лео!
Ведь он же знает, как я боюсь мертвых. Мне всегда чудится, что они со мной разговаривают. А от комариной капельки крови меня тошнит. В гимназии, на выпускном экзамене, когда у Нюмы Шарослободского от страха пошла кровь носом, со мной случился припадок, близкий к эпилептическому. Припадок, как прачка, намылил мне губы и, словно игрок в домино, перевернул глаза с темного брюшка на белое.
«В конце концов, это его любовница. Какое мне дело?»
С присущим моему другу благородством, он уступил ее мне, когда ее голова стала отвратительной лепешкой, уснащенной густым липким кровавым вареньем — похожим на малиновое.
Сковорода сказал бы про мою душу, что она тощая и бледная, точно пациент из лазарета. А душу моего друга он бы, возможно, уподобил Библии, которая, по его словам, породила не львов или орлов, а мышей, ежей, сов, нетопырей, шершней, жаб, песьих мух, ехидн, василисков, обезьян и вредящих Соломоновым виноградникам лисиц.
Дорога была обмазана солнцем, как йодом. От трепетаний прямых сосен пел воздух. Небо, спокон века напухшее голубизной и потому не впитывающее моего отчаяния, казалось тяжелей греческой губки, вынутой из горячей ванны. Если бы оно было тучистое или мглистое — дышалось бы легче.
Лошадь медленно передвигала ноги. Лидия Владимировна лежала поперек седла. Ее серебристые шпорики игриво тинькали, худенькое плечо доверчиво прижималось к моим коленям, несгибающиеся пальцы не противились моему пожатью. Если бы у нее была голова, может быть, я поцеловал бы ее в губы.
Я подумал о своем внутреннем хозяйстве. В эту минуту оно мне показалось образцовым. Вроде имения Константина Федоровича Костанжогло, где даже свинья глядела дворянином.
Продолжить прекрасного рассуждения не удалось — Лидия Владимировна скатилась с седла. Лошадь рванулась и заскакала. В ужасе я вцепился одной рукой в ногу трупа, развевающего по ветру кровавые волосы, как знамя революции, другой рукой за гриву одуревшего животного.
Сосны звенели. Дорога, вымазанная солнцем, вертелась. Я закрыл глаза. Зубы кусали воздух. Сначала он казался жестким, как бифштекс, потом вдруг сделался жидким, как вода. Я стал захлебываться.
Через три дня за Лидией Владимировной из корпуса приехал муж. Артиллерийский офицер походил на сельского учителя. Полковничьи погоны с белыми генштабистскими жгутиками будто шутки ради были прицеплены к мешковатой гимнастерке, подпоясанной, как ситцевая рубаха. Стекла круглых очков были все время мутны, словно его глаза дышали. Рыжеватые сапоги сморщились, как человек, собирающийся заплакать.
Он сидел у гроба, пощипывая редкую бороденку непонятного цвета. А когда ему казалось, что никто не видит, он гладил Лидии Владимировны руки и по-домашнему, без попреку, протирал запотевшие стекла своих очков ее черной юбкой в шершавых пятнах от подсохшей крови.
Лидия Владимировна лежала с закрытым лицом, а мой друг в 1922 году лег в деревянный ящик будто в кровать к любовнице.
К последнему блестящему выезду его снарядила моя жена. Вытаскивая голову из петли, она прощебетала:
— Ах, какой ужасно, ужасно непривлекательный!
И тут же вынула из гипюровой сумочки герленовскую губную помаду, карандаш для бровей, пудреницу и тушь для ресниц, так называемую «плевательницу».
Моя жена преобразила его в несколько минут. Белые, сухие губы стали пунцовыми и жирными, бровь изогнулась мефистофельскою презрительностью, а пыльные щеки заперсиковели.
Гроб с моим другом стоял в общественном здании. Мраморные колонны были одеты в пурпур и креп.
Знаменитые актеры читали моему другу Державина, Пушкина и Александра Блока. Скрипач с мировым именем Наум Шарослободский играл Гайдна. У Нюмы все также висела па косу капелька, хотя грудь его, шея и руки были осыпаны хрустким снегом крахмала, а комберленовский фрак облил тщедушное тело черным дождем. Балерина, носившая название «народной», танцевала ему «Умирающего лебедя». У балерины были глаза как две огромные слезы.
Человек, повешенный мною, лежал в гробу как фараон. Я был удивлен, почему не снабдили его моссельпромовским печеньем «Сафо» и несколькими баночками пищетрестовских консервов.
Около разлагающегося трупа представители общественных организаций, друзья и возлюбленные несли почетный караул.
Примерно с пятого года революции москвичи заобожали покойников. Как только умирал поэт, стихов которого они никогда не читали, глава треста или актриса, сошедшая со сцены четверть века тому назад, граждане, сломя голову, бежали «смотреть».
На мертвецов образовывались очереди, как на подсолнечное масло или на яйца. В очередях ругались, вспоминали старое время, заводили знакомства, обсуждали политические новости. Словом, мертвецкие хвосты ничем не отличались от кооперативных. Некоторые приходили в очередь с бутербродами, некоторые с книгами, некоторые со складными стульчиками, а рукодельницы с вязаньем или вышиваньем.
Люди, имеющие склонность поблистать, положительно не пропускали ни одного сколько-нибудь видного покойника. Премьеры или вернисажи не могли конкурировать с похоронами.
Я сам недосужно ответил на приглашение, далеко не лишенное заманчивости:
— Не могу. Не могу. Днем я на Ермоловой, а вечером в Большом на Борисе.
Великую Ермолову хоронили еще пышнее, чем моего друга.
Когда шофер в кожаных латах и с опущенным кожаным забралом остановил госиндикатовскую машину с Сашей Фрабером около общественного здания в пурпуре и крепе, очередь на моего друга уже завернула за угол второго квартала.