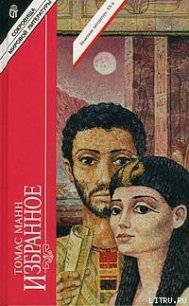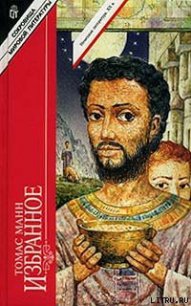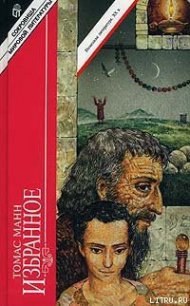Марио и волшебник - Манн Томас (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗
Как видно, это доставляло удовольствие, и очень скоро к нему примкнули другие: двое юношей, один бедно, а другой хорошо одетый, тоже принялись, справа и слева от него, исполнять «степ».
Тогда-то и вмешался молодой римлянин, он заносчиво спросил, возьмется ли кавальере обучить его танцам, даже если он этого не хочет.
– Даже если вы не хотите! – ответил Чиполла тоном, которого я никогда но забуду. Это ужасное «Anche so non vnolo!» и сейчас звучит у меня в ушах.
И тут начался поединок. Выпив свою рюмочку и закурив новую сигарету, Чиполла поставил римлянина где-то в среднем проходе лицом к двери, сам встал на некотором расстоянии позади него и, щелкнув в воздухе хлыстом, приказал:
– Balla! [31] Противник не тронулся с места.
– Balla! – веско повторил кавальере и опять щелкнул хлыстом.
Все видели, как молодой человек повел шеей в воротничке, как одновременно рука у него дернулась кверху, а пятка вывернулась наружу. Но дальше этих признаков разбиравшего его искушения, признаков, которые то усиливались, то затихали, долгое время дело не шло. Каждый в зале понимал, что Чиполлс тут предстоит сломить героическое упорство, твердое намерение сопротивляться до конца; смельчак отстаивал честь рода человеческого, он дергался, но не плясал; и эксперимент настолько затянулся, что кавальере пришлось делить свое внимание: время от времени он оборачивался к пляшущим на эстраде и щелкал хлыстом, чтобы держать их в повиновении, и тут же, повернув лицо вполоборота к залу, заверял публику, сколько бы эти беснующиеся ни прыгали, они не почувствуют потом никакой усталости, потому что, по существу, пляшут не они, а он. А затем Чиполла опять впивался буравящим взглядом в затылок римлянина, чтобы взять приступом твердыню воли, не покоряющуюся его могуществу.
Мы видели, как под повторными ударами и окриками Чиполлы твердыня зашаталась – мы наблюдали за этим с деловитым интересом, не свободным от эмоциональных примесей жалости и злорадства. Насколько я понимаю, римлянина подорвала его позиция чистого отрицания. Вероятно, одним нехотением но укрепишь силы духа; не хотеть что-то делать – этого недостаточно, чтобы надолго явиться смыслом и целью жизни; чего-то не хотеть и вообще уже ничего не хотеть и, стало быть, все-таки выполнить требуемое, – тут, видимо, одно так близко граничит с другим, что свободе уже не остается места. На этом и строил свои расчеты кавальере, когда, между щелканьем хлыста и приказами плясать, уговаривал римлянина, пользуясь помимо воздействий, составляющих его тайну, и смущающими психологическими доводами.
– Balla! – говорил он. – К чему же мучиться? И такое насилие над собой ты называешь свободой? Una-baHatina! [32] Да у тебя руки и ноги сами рвутся в пляс. Какое облегчение дать им наконец волю! Ну вот, ты и танцуешь! Это тебе уже не борьба, а одно наслаждение!
Так оно и было, подергиванья и судорожные трепыханья в теле упрямца все усиливались, у него заходили плечи, колени, и вдруг что-то во всех его суставах будто развязалось, и, вскидывая руки и ноги, он пустился в пляс, и все продолжал плясать, пока кавальере под аплодисменты зрителей вел его к эстраде, к другим марионеткам. Теперь нам открылось лицо покоренного, там, наверху, оно было видно всем. «Наслаждаясь», он широко улыбался, полузакрыв глаза. Некоторым утешением нам могло служить то, что ему теперь было явно легче, чем в пору его гордыни.
Можно сказать, что его «падение» послужило поворотным пунктом.
Оно растопило лед, торжество Чиполлы достигло апогея; жезл Цирцеи, то бишь свистящий кожаный хлыст с рукояткой в виде когтистой лапы, властвовал безраздельно. К тому времени – это было, как я припоминаю, далеко за полночь, – на тесной эстраде плясало человек восемь или десять, но и в самом зале отнюдь не сидели смирно, так, например, длиннозубая англичанка в пенсне, безо всякого приглашения маэстро, вышла из своего ряда и в среднем проходе исполнила тарантеллу. Чиполла тем временем сидел развалившись на соломенном стуле в левом углу сцены, курил и высокомерно пускал струйкой дым через щербатые зубы. Раскачивая ногой, а иногда беззвучно смеясь одними плечами, он смотрел на беспорядок в зале и время от времени, почти даже не оборачиваясь назад, щелкал хлыстом перед каким-нибудь плясуном, вздумавшим было прекратить удовольствие. Дети в ту пору не спали. Я упоминаю о ниx со стыдом. Здесь было скверно, а детям уж и вовсе не место, и если мы их все еще не увели, то я объясняю это лишь тем, что нам тоже отчасти передалось охватившее всех в этот поздний час безрассудство. Ах, будь что будет! Впрочем, наши малыши, слава богу, не понимали всей непристойности этого вечернего увеселения. По наивности они не переставали радоваться небывалому разрешению: вместе с нами сидеть здесь и наблюдать такое зрелище – представление фокусника. Они уже не раз засыпали у нас на коленях, и теперь, с пунцовыми щеками и блестящими глазенками, хохотали от души над скачками, которые проделывали взрослые дяди по приказу повелителя вечера. Они и не думали, что будет так смешно, и лишь только раздавались аплодисменты, тоже принимались радостно хлопать неумелыми ручонками. Но оба по-ребячьи запрыгали от восторга на своих местах, когда Чиполла поманил к себе их друга Марио, Марио из «Эсквизито», – поманил по всем правилам, держа руку у самого носа и попеременно то вытягивая, то сгибая крючком указательный палец.
Марио повиновался. Я и сейчас вижу, как он поднимается по ступенькам к кавальере, а тот продолжает все так же карикатурно манить его к себе указательным пальцем. На какое-то мгновенье юноша заколебался, я и это хорошо помню. Весь вечер он простоял, прислонившись к деревянному столбу, скрестив руки или засунув их в карманы пиджака, в боковом проходе, слева от нас, там же, где стоял и Джованотто с воинственной шевелюрой, и внимательно, но без особой веселости, – насколько мы могли заметить, – и бог ведает, понимая ли, что здесь творится, следил за представлением. Ему, видимо, было не по нутру, что и его напоследок позвали. Однако не удивительно, что он послушался знака Чиполлы. К этому его приучила профессия; потом, даже психологически невозможно представить себе, чтобы скромный малый мог ослушаться такого вознесенного в этот час на вершину славы человека. Итак, волей-неволей Марио отошел от столба и, поблагодарив стоящих перед ним зрителей, которые, оглянувшись, расступились, пропуская его вперед, с недоверчивой улыбкой на толстых губах поднялся на эстраду.
Представьте себе коренастого двадцатилетнего парня, коротко остриженного, с низким лбом и тяжелыми веками, полуопущенными над глазами неопределенного сероватого цвета в зеленых и желтых крапинках.
Я хорошо это помню, потому что мы часто с ним беседовали. Верхняя половина лица с приплюснутым носом, усыпанным у переносицы веснушками, несколько отступала назад по отношению к нижней, где прежде всего выделялись толстые губы, за которыми, когда Марио что-то говорил, поблескивал влажный ряд зубов; именно выпяченные губы, в сочетании с полуприкрытыми глазами, придавали его лицу выражение какой-то простодушной задумчивой грусти, из-за которой Марио нам сразу полюбился.
Ничего грубого не было в его чертах, да, этому противоречили бы его на редкость узкие, будто точеные руки, которые, даже среди южан, выделялись своим благородством, и было приятно, когда он вас обслуживал.
Мы знали, что он за человек, не зная его лично, если вы разрешите мне провести такое различие. Видели мы Марио почти ежедневно и даже прониклись своего рода сочувствием к его манере держаться, мечтательной и легко переходившей в рассеянность, которую он, спохватившись, тотчас спешил искупить особым усердием; он держался серьезно, лишь дети иногда вызывали у него улыбку и не то чтобы неприветливо, но без угодливости, без деланной любезности, – или, вернее, он отказался от всяких любезностей, не питая, видимо, никакой надежды понравиться. Образ Марио, во всяком случае, остался бы у нас в памяти – как одно из тех незначительных дорожных впечатлений, которые ярче запоминаются, чем куда более важные. О домашних его обстоятельствах нам было известно лишь то, что отец его служит мелким писарем в муниципалитете, а мать – прачка.
31
Пляши! (ит.)
32
Только один танец! (ит.)