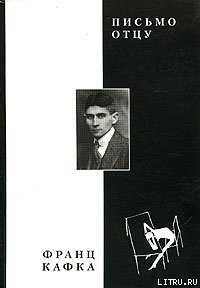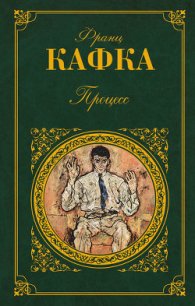Письма к Милене - Кафка Франц (книги без регистрации бесплатно полностью .txt) 📗
Но я вовсе не хотел этого говорить или хотел, только по-другому, уже поздно, придется заканчивать и ложиться спать, а спать я не смогу, потому что оставил письмо к тебе недописанным. Если когда-нибудь ты захочешь узнать, как я жил раньше, я пришлю тебе из Праги громадное письмо, которое примерно полгода назад написал отцу, но так и не отдал.
А на твое письмо я отвечу завтра либо, если припозднюсь, послезавтра. Я задержусь здесь еще на день-другой, потому что решил не ездить к родителям во Франценсбад, впрочем, то, что я просто остаюсь лежать на балконе, вообще-то решением назвать нельзя.
Еще раз спасибо тебе за письмо.
Ф.
Вторник
Сегодня опять видел тебя во сне. Мы сидели рядом, и ты отталкивала меня, не сердито, дружелюбно. Я был очень несчастен. Не из-за отталкивания, а из-за себя самого, ведь я отнесся к тебе как к первой встречной безмолвной женщине и пропустил мимо ушей голос, который шел из тебя и обращался прямо ко мне. Или, может быть, и не пропустил мимо ушей, но не мог ответить. Так и ушел, еще безутешнее, чем в первом сне.
Мне вспомнилось сейчас, что однажды я прочел у кого-то: «Моя любимая – огненный столп, скользящий по земле. И он держит меня в плену. Но ведет не плененных, а видящих».
Твой
(теперь я отбрасываю и имя тоже; оно все укорачивалось и теперь звучит так: твой)
Среда
Сегодня в обед пришли сразу два письма от Вас; их бы не читать, а разложить на столе, спрятать в них лицо и потерять рассудок. Но тут-то и выясняется, как это хорошо, что ты его уже почти потерял, потому что за остаток потом цепляешься как можно дольше. И потому мои 38 еврейских лет говорят перед лицом Ваших 24 христианских:
Да как же это так? Куда смотрели мировые законы и вся небесная полиция? Тебе 38 лет, и ты так устал, как, наверное, от возраста вообще не устают. Вернее сказать, ты вовсе не устал, а стал беспокойным, ты лишнего шагу боишься ступить на этой ощетинившейся ловушками земле, и потому у тебя фактически все время обе ноги в воздухе; ты не устал, а только боишься страшной усталости, которая последует за этим страшным беспокойством и которую (ты ведь еврей и знаешь, что такое страх) можно представить себе – в лучшем случае – как животное прозябание, с тупым идиотским взглядом, в садике сумасшедшего дома позади Карловой площади.
Хорошо, вот ты таков. Не в одно сражение умудрился ты ввязаться, сделал при этом несчастным и друга, и врага (а ведь вокруг-то были даже сплошь друзья, милые, добрые люди, не враги), стал при этом уже инвалидом, из тех, кого бросает в дрожь один вид игрушечного пистолета, и вот вдруг, вдруг ты будто оказываешься призванным к великой битве во избавление мира. Не странно ли все это?
Вспомни также, что, наверное, лучшей порой твоей жизни, о которой ты, собственно, никому еще по-настоящему не рассказывал, были те восемь месяцев в деревне два года тому назад, [33] когда ты, полагая, что уже подвел всему итог, сосредоточился только на самом в тебе несомненном и ощущал себя свободным – без писем, без этой затяжной пятилетней переписки с Берлином, [34] под крылом твоей болезни – и при этом тебе вовсе не много надо было в себе менять, просто более твердой чертой обвести прежние тонкие контуры твоего существа (ведь лицо твое под седыми волосами почти не изменилось с тех пор, как тебе было шесть лет).
Что это был не конец, ты, к сожалению, понял за последние полтора года, и тут-то ты пал так, что ниже почти некуда (я не считаю последней осени, когда я честно вел борьбу за брак), и потянул за собой другого человека, милую и добрую девушку, образец жертвенного самоотречения, – о, ниже пасть некуда, никакого выхода, и в бездне тоже.
Хорошо, и вот тебя зовет Милена, и голос ее с равной силой проникает в разум и сердце. Милена, конечно, тебя не знает, несколько твоих рассказов и писем ослепили ее; она как море – в ней та же сила, что и в море с его водной громадой, но в неведении своем эта стихия обрушивается на тебя всей своей мощью, повинуясь воле мертвой, а главное, далекой луны. Она тебя не знает, но, возможно, предчувствует истину, когда зовет тебя. Ведь в том, что твое реальное присутствие уже не ослепит ее, ты можешь быть уверен. Не потому ли, трепетная душа, ты не хочешь прийти на зов, что именно этого и боишься?
Но если даже признать, что у тебя есть сотня других внутренних причин для отказа (а они в самом деле есть) и, помимо того, одна внешняя: ты ведь не сможешь говорить с Миленой или видеть ее, когда мужа при этом не будет, – даже если признать все это, остаются еще два соображения.
Во-первых, стоит тебе пообещать приехать, как Милене, возможно, уже и расхочется, чтобы ты приезжал, – причина тут будет не в нерешительности, нет, а в естественной усталости, – и она с удовольствием и облегчением отпустит тебя на все четыре стороны.
А во-вторых – ну что ж, поезжай в Вену! Милена ведь думает только о том, как откроется дверь. Она, конечно, откроется, а дальше что? В дверях воздвигнется тощий верзила с приветливой улыбкой на лице (улыбаться он будет беспрестанно, это у него от старой тетушки, она тоже беспрестанно улыбалась, и в обоих случаях это не намеренно, а просто от смущения) – и сядет потом, куда укажут. Тут-то, собственно, и будет конец всей торжественности и праздничности, ибо говорить он едва ли сможет, для этого в нем слишком мало жизненных сил (мой здешний новый сосед по столу сказал вчера по поводу вегетарианской диеты своего немого собрата: «По-моему, для умственной работы мясная пища просто необходима») – и он даже счастлив не будет, у него и для этого слишком мало жизненных сил.
Видите, Милена, я говорю откровенно. Но Вы умны, Вы сразу заметили, что хоть я и говорю правду (всю – безусловно и как на духу), но говорю слишком откровенно. Я ведь мог бы приехать без этих предуведомлений и в два счета Вас разочаровать. Если я так не поступил, то это лишнее доказательство моей правдивости – моей слабости.
Я останусь тут еще на две недели – главным образом потому, что стыжусь и страшусь вернуться с такими скудными результатами лечения. Дома и, что самое досадное, на службе [35] от этого моего лечебного отпуска ожидают чуть ли не выздоровления. Мучительны эти вопросы: «Ну, сколько ты прибавил?» (А ты все худеешь и худеешь.) «Не экономь на еде!» (Это намек на мою скупость – а я плачу за пансион, но есть не могу.) И другие шутки в этом же роде.
Есть еще много чего сказать, но тогда письмо не кончится вообще. Да, вот только еще что: если к концу этих двух недель Вы все так же твердо, как в пятницу, будете желать моего приезда – я приеду.
Ваш Ф.
Снова суббота
Милена, наши письма обгоняют друг друга, эту чехарду надо прекратить, она сведет нас с ума, тут уж и сам не знаешь, что ты написал, на что тебе отвечают, и дрожишь в любом случае. Твой чешский я прекрасно понимаю и смех твой слышу, но, погружаясь в твои письма, я лихорадочно роюсь и в слове, и в смехе и в конце концов слышу только слово; да ведь и основа моего существа – страх.
По-прежнему ли ты хочешь меня видеть после моих последних писем, я не могу судить; свое отношение к тебе я знаю (ты – моя, даже если я тебя никогда не увижу), я знаю его в той мере, в какой оно не поглощается необозримыми пространствами страха, а вот твоего отношения ко мне, повторяю, я совсем не знаю, Милена. [36]
Для меня ужасно то, что происходит: мой мир рушится, мой мир снова встает из руин, вот и смотри, как тебе тут удержаться. Я не жалуюсь на то, что он рушится, он давно уже шатался, я жалуюсь на то, что он встает снова, на то, что я родился на свет, – и на свет солнца жалуюсь тоже.
33
Кафка вспоминает здесь свое пребывание у сестры Оттлы в Цюрау с сентября 1917 г. по конец апреля 1918 г.
34
Речь идет о переписке с Фелицей Бауэр, первой невестой Кафки.
35
С 1908 г. Кафка был служащим фирмы по страхованию от несчастных случаев на производстве.
36
[Слева на полях: ] Да, и ты, Милена, все ж таки меня не понимаешь, «еврейский вопрос» был всего-навсего глупой шуткой.