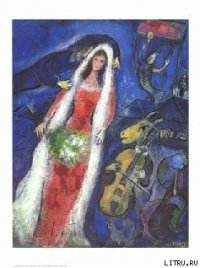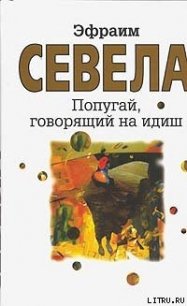Блуждающие звезды - Шолом- Алейхем (первая книга TXT) 📗
Лучше всех подражает директору Гоцмах. Он и вообще любого человека так искусно умеет передразнить, что можно лопнуть со смеху. Веселое создание этот Гоцмах! Лейбл никак не может понять, откуда берется у этого человека столько веселья. Никто, кажется, так много не работает, как Гоцмах, никто столько не хлопочет, не бегает, не мучается, не голодает, не кашляет и не получает столько затрещин, оплеух и подзатыльников от всех и каждого, сколько Гоцмах, и в то же время никто не смеется так жизнерадостно, так заразительно, как Гоцмах. Только что, кажись, директор схватил его за шиворот и выбросил из гардеробной: «Гоцмах, черт бы тебя побрал!» А Гоцмах уже стоит за спиной директора, слегка согнувшись, склонив голову набок, поджав губы, и, если вы поглядите на него спереди, вы увидите нелепое лицо с маленькими глазками – вылитый Альберт Щупак!
Ну, как не любить такого человека?
Глава 16.
Гоцмах пишет письмо
– Эй ты, панский козел! Ты же учишься а хедере, стало быть, хорошо умеешь писать. Принеси-ка сюда перо, чернила и листок бумаги с конвертом… да заодно уж и семикопеечную марку.
С такими словами обратился в одно прекрасное утро к своему юному приятелю Гоцмах, занятый чисткой сапог актеров.
Через несколько минут все перечисленные предметы были уже в сарае, то есть в театре, по ту сторону занавеса, за кулисами.
На опрокинутом ящике у треногого столика сидел сын Рафаловича Лейбл и писал письмо. Напротив него на полу расположился Гоцмах с папиросой в зубах. Отложив в сторону недочищенные сапоги, он кашлянул и с важностью стал диктовать:
– Пиши так, душа моя:
Моей дорогой любимой матери Сора-Брохе всякого благополучия! И моему дорогому любимому дяде Залмену всякого благополучия! И моей дорогой любимой сестре Златке всякого благополучия! И всем моим дорогим и любезным друзьям всякого благополучия…
– Готово, душечка? Погоняй дальше!
Во-первых, я спешу вас уведомить, что я, слава богу, вполне здоров, чего желаю и ныне, и вечно, и во всякое время от вас услышать, аминь!
– Поставил, котик, «аминь»? Вот за это я тебя люблю! Мели дальше.
Во-вторых, спешу тебя уведомить, моя любезная дорогая мамаша, что мы находимся в Бессарабии, в стране папешуй, мамалыги и толстых женщин. И мы каждую ночь играем в театре, и я спешу тебя уведомить, что я играю уже первые роли, и после осенних праздников мы начинаем работать на марках, то есть на паях, а пока что я работаю на жалованье, то есть понедельно, то есть каждую неделю я должен получать то, что мне следует. Не так уж много, чтобы голова трещала, но, слава богу, хоть не даром. Я знаю, что по своей работе заслуживаю гораздо больше, и, может быть, я и получал бы больше, но у нас есть плут, мошенник, зовут его Шолом-Меер – так это такой Шолом-Меер, что не приведи господь! – дай ему боже быть искупительной жертвой за тебя, за меня и за Златку! Это, знаешь, сущая собака на сене: сам не ест и другим не дает. И посылаю тебе три рубля и прошу тебя, дорогая мама, не обижайся, что не высылаю трехсот. Это все, что у меня есть. И купи себе что-нибудь на праздник, что понужнее, и Златке, ради бога, купи пару ботинок, только непременно, без всяких отговорок. И скажи дяде Залмену, чтобы он не морочил мне голову насчет призыва, плевать я хотел на призыв! На этот счет я уже давно обеспечен, за что я должен поблагодарить его, моего любимого дядюшку Залмена… И прошу тебя, моя дорогая мама, когда будешь мне писать письмо, пусть Эля-меламед заодно уже напишет, когда годовщина смерти отца. В прошлом году она пришлась как раз на пятый день праздника «кущей». И пиши мне, работаешь ли ты еще на старой службе, и во что бы то ни стало Златке купи ботинки. А больше новостей у меня покамест нет. И будь здорова, дорогая мамаша, от меня, твоего сына, который желает тебе много добра и счастья и ныне, и навеки, и во всякое время от тебя то же услышать, аминь.
– Теперь, пузырь, дело за мною: дай-ка мне перо, я приложу свою руку.
Гоцмах засучил рукав правой руки до самого локтя и принялся за работу: вывел несколько крючков и каракулей и спросил своего секретаря Лейбла:
– Разве тут не написано Герш-Бер Гольцман?
Лейбл пристально всматривался в эти иероглифы, долго искал, но никак не мог обнаружить ни Герша, ни Бера, ни Гольцмана, ни вообще подобия какого-нибудь имени.
– Мой дорогой зверюшка, что ты так присматриваешься? – обратился Гоцмах к своему юному другу, принимаясь снова за прерванную работу: чистку сапог. – Тебе, я вижу, как будто понравился мой почерк. Это я сам научился писать, глупенький. Собственным умом дошел. Все, что я знаю, всему я научился сам. Все говорят, что у меня был бы удивительно красивый почерк, если бы только меня учили. Но где там? Когда я совсем еще ребенком остался сиротой, мать поступила прислугой в чужой дом, а меня дядя Залмен принял к себе на работу. Он – портной заплаточник, совершенный калека в своем деле, но учеников колотит, как заправский мастер. И вот однажды за столом он мне, так сказать, намекнул… горячим утюгом прямо в грудь. С тех пор у меня не прекращается кашель… Ну, мать и отобрала меня от дяди-душегуба и отдала в ученье другому калеке. Но я уже не мог сидеть за работой, все из-за утюга, которым дядя меня угостил. Тогда мать думала-думала и отдала меня в помощники к меламеду – умывать ребятишек, повторять с ними утреннюю молитву, носить им завтрак в хедер. Оно, конечно, завтраки носить – работенка довольно-таки подходящая, – там глоток, там кусок, можно кое-чем и полакомиться. Но вот беда – когда на улице непролазная грязь, приходится таскать ребятишек на спине, а где взять на то силы? На мое счастье, приехал к нам в город еврейский театр. Еврейский театр, шутка ли! Как же так?! Все бегут в театр, а я буду дома сидеть? Ну, конечно, я кое-как пробрался туда, понятно, без билета. И должно же было случиться, на мое счастье, что директору, этому самому Щупаку, вздумалось пройтись по рядам, проверить билеты. Ну, само собой, он схватил меня за шиворот, выдрал хорошенько за уши и вышвырнул вон. Это было бы еще с полбеды, если бы он не сорвал с меня шапки. Как можно прийти домой без шапки? Мама ведь расскажет дяде, а этот разбойник забьет меня до смерти. Вот я и проторчал весь вечер на улице на лютом морозе, возле театра, пока публика не разошлась. Тогда я бросился к директору, к Щупаку то есть, плакал, заливался слезами, целовал руки, умолял отдать шапку. Я рассказал ему всю правду, что я всего-навсего сирота и что у меня дядя разбойник… Выслушал он меня, этот Щупак, осмотрел с головы до ног своими маленькими глазками, – чтобы они ему на лоб выскочили! – и говорит: «Ты, говорит, сирота и тебе негде быть? Может быть, говорит, ты бы поступил ко мне в театр? Я, говорит, сделаю тебя актером».
Глава 17.
Чудесное превращение в комика
Гоцмах закашлялся, прервал на минутку чистку сапог, закурил папиросу и, затянувшись несколько раз, продолжал свое повествование. Он стал рассказывать своему юному другу о том, какими чудесами он стал актером.
– Ты, конечно, думаешь, умница, что мать была очень довольна моей новой профессией? Ничуть не бывало! И не столько была недовольна она, сколько дядя Залмен: «Уедет он с актерами, так сразу перестанет читать поминальную молитву по отцу – бездельник этакий!» Этим дядя хотел подействовать на маму. Но что мне дядя? Какая там поминальная молитва, когда я неожиданно поднялся на такую высоту? Первое время, можешь себе представить, мне не так уж сладко жилось в театре. Щупак начал обучать меня совсем на особый манер. Прежде всего, он угостил меня несколькими раскатистыми оплеухами за то, что я не умел чистить сапоги. «Разве так, говорит, чистят?» И, выхватив у меня из рук щетку, стал показывать, как это надо делать, чтоб и сапогу любо было… Затем стал гонять меня, точно гончую собаку; давал такие поручения, что нужно было быть о семи головах, чтобы все запомнить и всюду поспеть… А чуть не угодишь – оплеуха… Такой уж вредный характер у этого человека, чтоб у него рученьки отсохли! Проходит месяц, другой, третий, четвертый, а я сцены и в глаза не вижу. Боже, что же со мной будет? Для этого ли я всем пожертвовал?..