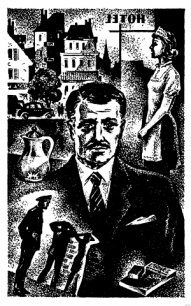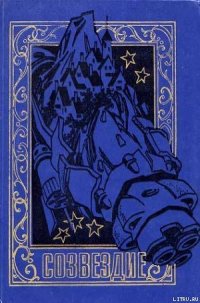Святая ночь (Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей) - Вебер Виктор Анатольевич
Однажды Фридрих посетил своего друга, с которым прежде не раз обсуждал научные вопросы. Он, как это нередко случается, не виделся с ним долгое время. Поднимаясь по лестнице его дома, Фридрих силился вспомнить, когда же и где они встречались в последний раз. И хотя он обычно с полным правом гордился своей памятью, на этот раз она ему изменила. Его невольно охватило чувство досады и неловкости; оказавшись перед дверью, он внутренним усилием встряхнулся.
Но только он успел поздороваться с Эрвином, своим другом, как сразу обнаружил на его дружелюбном лице какую-то незнакомую прежде улыбку — снисходительную. Едва отметив про себя эту улыбку, он, несмотря на свою приязнь к Эрвину, почему-то сразу воспринял ее как враждебную, презрительную, и в тот же миг ему вспомнилось то, что, казалось, совсем затерялось в памяти, — последняя их встреча, давнишняя, после нее они расстались не то чтобы рассорившись, но огорченные, в душевном отчуждении, потому что Эрвин, как ему показалось, не слишком-то поддерживал его тогдашние нападки на царство суеверий.
Странное дело! Как он мог решительно забыть об этом! Теперь он отдавал себе отчет в том, почему столь длительное время не навещал друга: из-за размолвки, о которой постоянно помнил, хотя сам для себя находил массу причин, чтобы отсрочить этот визит.
Они стояли совсем рядом, и Фридриху почудилось, будто тогдашние расхождения и отчуждение приняли еще большие размеры. Им с Эрвином, как бы подсказывало его чувство, в эти мгновения недоставало того, что всегда присутствовало, — общности духа, непосредственного понимания, даже взаимной склонности. Вместо них пустота, какая-то брешь, неприязнь. Они поприветствовали друг друга, поговорили о погоде, о знакомых, о самочувствии — и, бог знает почему, с каждым словом во Фридрихе усиливалось пугающее подозрение, что он Эрвина не понимает, что они словно забыли друг друга, что его слова Эрвина не задевают, что им не удастся найти почву для достойной беседы. А с лица Эрвина никак не сходила эта дружеская улыбка, которую Фридрих уже был готов возненавидеть.
В вымученном разговоре возникла пауза, Фридрих огляделся в хорошо знакомом ему кабинете и увидел, что к стене простой булавкой приколот листок бумаги. Вид этого листка странным образом растрогал его, разбудил воспоминания о былых временах, потому что сразу вспомнилось, как когда-то, давным-давно, в университетские годы, у Эрвина была привычка время от времени прикреплять подобным образом к стене высказывания великого мыслителя или строфу поэта — для памяти. Он поднялся и подошел к стене, чтобы прочесть. Вот они, эти слова, написанные изящным почерком Эрвина: «Нет ничего вовне, нет ничего во мне, ибо то, что вовне, то и во мне».
Побледнев, он на секунду замер. Вот оно! Он стоит перед Устрашающим! В другое время он стерпел бы этот листок, милостиво смирился с его присутствием, отнес на счет настроения, счел безобидной, вполне извинительной шуткой любителя или, допустим, проявлением сентиментальности, достойной снисхождения. Однако сейчас все иначе. Он понимал, что эти слова воспроизводят не мимолетное поэтическое ощущение и не по случайной прихоти Эрвин столько лет спустя вернулся к юношеским привычкам.
Написанное здесь отражало сегодняшние убеждения Эрвина, он впал в мистику! Эрвин — отщепенец.
Фридрих медленно повернулся к Эрвину, на губах его все еще блуждала улыбка.
— Объясни мне это! — потребовал он.
Эрвин так и излучал дружелюбие.
— А ты разве этого высказывания прежде не читал?
— Еще бы! — воскликнул Фридрих. — Разумеется, оно мне известно. Это — мистика, это — гностицизм. Может быть, поэтично… но… Нет, я прошу тебя, объясни мне его смысл и почему оно висит у тебя на стене.
— Охотно, — ответил Эрвин. — Это высказывание — первая ступень введения в теорию познания, которая меня сейчас занимает и которой я благодарен за часы счастья.
Фридрих, сдерживая негодование, спросил:
— Новая теория познания? Она существует? И как она называется?
— О-о, — протянул Эрвин, — для меня она не нова. Это древняя и очень почтенная теория. Имя ей — магия.
Слово произнесено. Перед Фридрихом, которого столь откровенное признание все же глубоко поразило и испугало, в личине друга предстал предвечный враг, и, глядя ему в глаза, он ужаснулся. Промолчал. Он не знал, разгневаться ему или разрыдаться, ощущение неизбывной потери переполнило его горечью. Он долго молчал.
И, наконец, проговорил, стараясь придать голосу язвительные нотки:
— Итак, ты вознамерился посвятить себя магии?
— Да, — ответил Эрвин без промедления.
— Ты будешь чем-то вроде ученика волшебника?
— Конечно.
Фридрих снова умолк. Наступила такая тишина, что было слышно, как в соседней комнате тикают ходики.
Несколько погодя Фридрих сказал:
— А известно тебе, что ты тем самым порываешь всякие связи с серьезной наукой… и тем самым отказываешься от любого общения со мной?
— Надеюсь, что нет, — ответил Эрвин. — Но если это неминуемо, что мне остается?
Фридрих даже зашелся от крика.
— Что тебе остается?! Порвать с этими игрищами, с этой нездоровой и недостойной верой в чудеса — порвать окончательно, навсегда! Вот что тебе остается делать, если ты хочешь сохранить мое уважение.
Эрвин усмехнулся, хотя, по-видимому, и ему было невесело.
— Ты рассуждаешь так, — начал он столь тихо, что гневный голос Фридриха как бы еще продолжал звучать в комнате, — ты рассуждаешь так, будто что-то в моей власти, будто я в состоянии выбирать, Фридрих. Но это не так. У меня нет выбора. Не я выбрал магию. Это она выбрала меня.
Фридрих глубоко вздохнул.
— Тогда… прощай! — проговорил он с трудом и поднялся, не протянув Эрвину руку.
— Зачем же так? — воскликнул Эрвин. — Нет, в таком состоянии я тебя не отпущу. Представь себе, что один из нас оказался на смертном одре — а это так и есть! — и нам приходится расстаться навеки.
— Однако, Эрвин, кто же из нас этот умирающий?
— Сегодня, наверное, я, друг мой. Ибо кто намерен воскреснуть, должен быть готов умереть.
Фридрих снова приблизился к стене и прочитал изречение.
— Положим, ты прав, — произнес он наконец. — Что пользы расставаться во зле? Будь по-твоему, я представляю, что один из нас — умирающий. Ведь и я мог бы оказаться на месте умирающего. Но прежде чем оставить тебя, я обращусь к тебе с последней просьбой.
— Вот это по-доброму, — сказал Эрвин. — Скажи, какую добрую услугу я могу оказать тебе на прощанье?
— Я повторяю мой первый вопрос. И он же — моя просьба. Объясни мне изречение — как сумеешь!
Подумав немного, Эрвин начал:
— Ничто не во мне, ничто не вовне. Религиозный смысл изречения тебе известен: бог повсюду. Он и в духе, он и в природе. Все божественно, ибо бог — это мир. Прежде мы называли это пантеизмом. А теперь смысл философский: деление на внешнее и внутреннее привычно нашему мышлению, но необходимости в нем нет. Таким образом наш дух получает возможность переступить через границу, которую мы мысленно протянули, уйти в потустороннее. А по ту сторону от принятых нами пар противоположностей — «да» и «нет», «добро» и «зло», «честь» и «бесчестие», а из них и состоит наш мир… да, по ту сторону открываются новые, иные знания… Но, любезный друг мой, я должен признаться тебе: с тех пор, как мышление мое претерпело изменения, для меня не существует более слов или выражений, обладающих одним, неизменным, смыслом. Каждое слово может приобрести десятки, сотни смыслов и толкований. Тут и начинается то, чего ты опасаешься: магия.
Фридрих наморщил лоб и хотел было перебить, но Эрвин умоляюще взглянул на него и, словно испытывая внутреннее торжество, проговорил:
— Позволь, я дам тебе что-нибудь на память! Возьми одну из моих вещиц и понаблюдай за ней некоторое время, поглядывай на нее. И тогда изречение о «во мне и вовне» откроет тебе один из множества своих смыслов.
Оглядевшись, он снял с книжной полки маленькую глиняную фигурку, покрытую глазурью, и протянул ее Фридриху со словами: