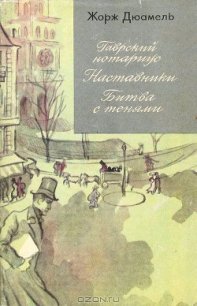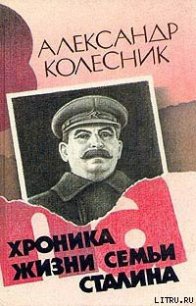Хроника семьи Паскье. Гаврский нотариус. Наставники. Битва с тенями - Дюамель Жорж (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT) 📗
Для психолога вроде тебя Лармина стал бы превосходным объектом изучения. Признаюсь, я не вполне понимаю его. Субъект этот с надменной властностью руководит Национальным институтом биологии, представляющим собою весьма крупное учреждение. Он требует, чтобы все шло по струнке, и это я, в общем, понимаю. Он все время напоминает нам о нашей ответственности, и тут он опять-таки прав. Он вбил себе в голову навязать мне совершенно негодного сотрудника. Когда я этого шалопая выгнал, Лармина попросил меня взять его обратно — я отказался. Кончилось тем, что он назначил Биро в лабораторию сывороток и осмелился толковать мне, чтобы объяснить свою настойчивость, о каком-то министре, министре, который... Какое отношение имеет политика, мерзкая политика, к нашими вакцинам и сывороткам? Какое отношение имеет политика к нашим чисто научным, человеческим спорам? Право же, если политика будет вмешиваться во все наши дела и во все наши мысли, это явится признаком того, что Франция не на шутку больна. Я человек дисциплинированный. К Лармина у меня не было никакого нежного чувства, я уважал его как начальника. А теперь я его презираю и презираю даже свою работу, которую так люблю; теперь она кажется мне как бы оскверненной, не столь прекрасной, не столь чистой.
Между Лармина и мной произошло бурное объяснение из-за назначения Биро в лабораторию сывороток, и я твердо заявил старику, что готов терпеть Биро, но не дам ему никакой работы, буду держать его в стороне, так что он станет всего лишь паразитом. Директор, казалось, был удовлетворен такой развязкой, и мы расстались, обменявшись миролюбивыми словами, — во всяком случае, ему хотелось, чтобы их приняли за таковые, но от них отвратительно несло подлой сделкой.
В общем, Биро почти ничем не занимался во время своего пребывания в моей личной лаборатории. Раз говорят, что я обязан терпеть его присутствие, мне проще всего было напрямик освободить его от каких-либо обязанностей. Я осведомил об этом означенного Биро. Сначала он расхохотался, затем пожал плечами, потом, вздыхая, произнес несколько наставительных и грустных фраз. Из последних перемен в риторике Биро особенно следует отметить склонность к употреблению безличных глаголов, а самое любопытное то, что он пользуется ими, говоря и о себе, и обо мне. Он мне сказал:
— Значит, теперь уже утратили доверие. Француз не доверяет французу. Как ни верти, это весьма прискорбно. А ведь делали все возможное, чтобы добросовестно выполнять свои обязанности.
Тут Биро пустился в рассуждения о долге и о почетности труда. Но я сбежал.
Недели полторы я надеялся, что такое положение сохранится и в дальнейшем. Приближается лето, погода стоит прекрасная, очень теплая. Биро сидел у входа в здание. Он курил трубку и читал газету. Когда я проходил мимо него, он вставал, шурша бумагой, потом взирал на меня с какой-то непередаваемой улыбкой — и насмешливой и скотской. Его большие выпученные глаза наполнялись какой-то мутной влагой, которую люди чувствительные могли бы принять за слезы, — но они ошиблись бы. Он говорил мне: «Здравствуйте, дорогой мосье». Я отвечал односложно, кивком, и, не скрою от тебя, меня охватывало какое-то беспокойство: уж не ошибаюсь ли я? Но нет, нет! Мы не можем, не должны терпеть возле себя недостойных сотрудников, даже если им «покрофительстфует» министр.
«В моей личной лаборатории Биро ловко воровал кроликов, а в лаборатории сывороток не украдет же он лошадь», — думал я. Но это, конечно, слабое утешение.
Последние дни положение омрачилось. Как-то утром Биро явился ко мне. Он был в рабочей одежде, то есть в ночных туфлях и синем фартуке. Он сказал, шевеля ушами, как животное (у него это получается отлично):
— Дорогой мосье, так длиться не может.
Я удивленно смотрел на него, а он продолжал, не без вздохов, стонов и откашливаний:
— Меня хотят довести до отчаяния. Это унижение, это позор, дорогой мосье. Так продолжаться не может. Впервые недовольны услугами Биро.
И вдруг, отказываясь от безличных форм глагола, он заявляет:
— Я хочу трудиться, как все. Я хочу зарабатывать хлеб, как все, своим трудом.
Ты слушай меня внимательно, вникай в мои слова, и ты увидишь, что вереница этих мельчайших событий развертывается вполне логично. Прохвост этот, когда был в моей лаборатории, не хотел ничего делать. Я был вынужден оставить его при себе, но решительно и начисто освободил его от работы. А теперь он, видишь ли, желает работать.
Ни слова не сказав, я отворил дверь, и г-н Биро, ворча, удалился. В последующие дни г-н Биро стал суетиться. При лаборатории сывороток имеется большое подсобное помещение, связанное с конюшней крытым переходом. Г-н Биро носился по лаборатории, подходил ко всем приборам, передвигал сосуды, навязывал свои услуги препараторам, которые не знали, как от них отказаться; они два-три раза со смущенным видом говорили мне об этом, ибо они заняты чрезвычайно тонкой работой, требующей большой сосредоточенности.
Комедия эта принимала уже совсем нелепый характер, и я снова отправился к г-ну Лармина. Он меня не принял. Я послал ему служебную записку, он мне не ответил. Я до сих пор ничего не говорил об этой истории своим коллегам, чтобы — в случае если меня избавят от Биро и передадут его кому-нибудь другому — не подумали, что я участник этого мерзкого подарка. Итак, я ничего не говорил в Институте, зато подробно рассказал всю эту невероятную историю Вюйому, который часто навещает меня и советами которого я дорожу. Ты немного знаком с Вюйомом: он значительно старше меня; мы с ним на «ты» еще со времен Сорбонны. Он уже поседел, у него высокая, гибкая фигура и мелодичный голос; на вид он очень обходительный, но он человек твердых убеждений. Краешки век у него красноватые из-за хронического блефарита, и это придает его взгляду нечто растроганное, взволнованное. Но он человек весьма рассудительный, и я ему вполне доверяю.
Я подробно поведал ему нелепую историю с Биро и мои переговоры с директором. Вюйом сказал:
— Люди вроде Лармина смертельно боятся политиков, так как они их рабы; но есть другая сила, которой они боятся не меньше.
— Что это за сила?
— Печать.
— Но не могу же я обратиться к печати из-за дрязги с негодным сотрудником, — воскликнул я.
— Почему не можешь? — ответил Вюйом, покачивая головой. — В плане научном все серьезно и должно рассматриваться серьезно. Недопустимо, чтобы такая работа, как твоя, страдала от того, что Лармина связан с более или менее продажными, более или менее властолюбивыми политиканами.
— Допустим. Но у меня нет ни одного знакомого среди парижских журналистов.
— Это ничего, — ответил Вюйом. — Ты поразмысли над этим. Но, если надумаешь написать статью, не надо отдавать ее в профессиональные журналы, в научные или медицинские органы, — это не вызовет отклика. Надо обратиться и привести в действие общественное мнение.
— Но не могу же я критиковать своего директора в обывательской газете.
— Согласен. Но ты вполне можешь написать очерк о материальных и моральных условиях, необходимых для научных исследований, о роли наших младших сотрудников и, в частности, о тех, кто помогает ученым при изготовлении лекарств. Черт возьми! Ведь это великолепная тема... И твой Старик сдрейфит.
Признаюсь, я очень растерялся, не знал, что ответить. Вюйом продолжал рассуждать, и я чувствовал, что у меня возникает множество мыслей. Спору нет, пресса — могучая сила, к которой можно обратиться для защиты правого дела, и ты не станешь отрицать этого, — ты, главный редактор газетки, которая собирается ни больше ни меньше, как пробудить Запад от спячки. Пока в голове у меня вертелись все эти мысли, Вюйом говорил:
— Если ты решишь обратиться к общественному мнению, а это вполне правильно, советую тебе избежать интервью, а самому написать очерк и тщательно взвесить все выражения.
— Где же его напечатать? Ведь очень трудно поместить статью в большой газете.
— Вовсе нет! Это сделать нетрудно, если есть что сказать, есть нечто интересное и если притом есть знакомство.