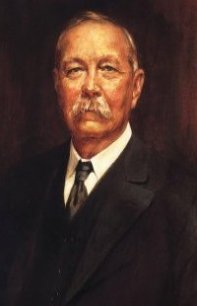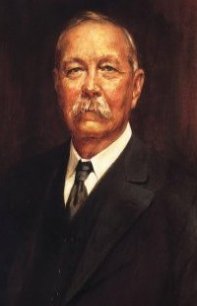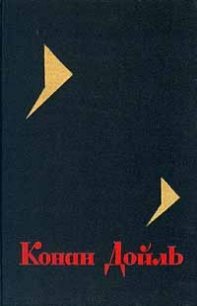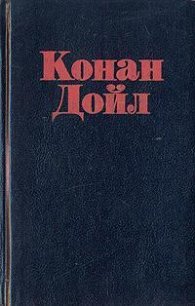Собрание сочинений. Том 5 - Дойл Артур Игнатиус Конан (полная версия книги txt) 📗
Но жуткое молчание встретило его, когда он приблизился, и сердце Симона сжалось в ответ на мертвую тишину маленькой долины. Ни лучика света не пробивалось сквозь расщелину в скале. Он вошел, окликнул старика — ответа не было. Тогда с помощью кремня и стального кресала он высек искру в сухую траву, которую употреблял вместо трута, и раздул огонек. Старый отшельник — белые волосы в малиновых брызгах — раскинулся на полу своей кельи. Осколки распятия, которым была пробита его голова, валялись рядом. Симон опустился на колени подле трупа и принялся расправлять его сведенные судорогой руки и ноги, бормоча слова заупокойной службы, как вдруг послышался стук копыт, поднимавшийся по долине, которая вела к жилищу пустынника. Сухая трава догорела. Симон, весь дрожа, притаился во мраке и твердил молитвы святой Деве, чтобы она укрепила его мышцы.
Возможно, новый пришелец заметил свет в пещере, а могло быть и так, что он услыхал от своих приятелей про старика, которого они убили, и любопытство привело его на место убийства. Он остановил лошадь у входа, и Симон, прячась в густой тени, отчетливо видел его в свете луны. Он сполз с седла, привязал повод к какому-то корню и теперь стоял, глядя в устье пещеры. Это был очень короткий и толстый человек с очень смуглым лицом и тремя рубцами на каждой щеке. Маленькие глазки сидели глубоко и казались черными отверстиями в тяжелом, плоском, безбородом лице. Ноги были короткие и очень кривые, так что он неуклюже переваливался на ходу.
Симон притаился в самом темном углу, сжимая в правой руке узловатую дубину, ту самую, которую богослов однажды поднял против него. Когда омерзительная, втянутая в плечи голова просунулась в темноту пещеры, он изо всех сил обрушил на нее свое оружие, а потом, когда дикарь упал ничком, бешено колотил до тех пор, пока бесформенное тело не обмякло и не замерло неподвижно. Одна кровля была над первыми убитыми Европы и Азии.
Жилы Симона бились и трепетали непривычною радостью действия. Вся энергия, накопленная за долгие годы покоя, хлынула потоком в этот час нужды. Стоя во мраке пещеры, он видел, словно на огненной карте, очертания великого варварского воинства, линию реки, места поселений, рассчитывал, каким образом можно всех предупредить. Молча ждал он, пока зайдет луна, а потом вскочил на лошадь убитого, спустился по ущелью и погнал ее галопом через равнину.
Повсюду горели огни, но он держался в стороне от света. Подле каждого огня он видел, проезжая мимо, кружок спящих воинов и длинную вереницу стреноженных коней. Миля за милей, лига за лигой тянулся этот исполинский лагерь. Наконец Симон добрался до пустой равнины, которая вела к реке, и скоро костры захватчиков обратились в туманное мерцание на черном фоне неба. Все быстрее и быстрее мчался он по степи, словно одинокий листок, который кружится впереди смерча. Заря, выбелившая небо у него за спиной, отразилась и в широкой реке впереди, и, нахлестывая усталого коня, он погнал его через отмели и погрузился в полные желтые воды Днестра.
Так это и произошло, что молодой римский центурион Гай Красс, обходя утром крепостцу Тир, заметил одинокого всадника, скакавшего к ним от реки. Истомленные, измученные, покрытые грязью и потом, а напоследок вымокшие в реке и конь и всадник были чуть живы. С изумлением наблюдал за ними римлянин, а когда они приблизились, узнал в оборванном человеке с взлохмаченными волосами и остановившимся взглядом пустынника с востока. Отшельник уже едва держался в седле, и римлянин поспешил навстречу и подхватил его на руки.
— Что такое? — спросил он. — Что случилось?
Но тот лишь указал движением головы на восходящее солнце.
— К оружию, — прохрипел он, — к оружию! День гнева настал.
И, взглянув туда, куда он показывал, римлянин увидел вдали за рекою громадную черную тень, медленно подвигавшуюся над равниной.
Состязание
(Перевод С. Маркиша)
В год от рождества Христова шестьдесят шестой император Нерон на двадцать девятом году своей жизни и тринадцатом году правления отплыл в Грецию в самом странном сопровождении и с самым неожиданным намерением, какое когда-либо приходило на ум монарху. Он вышел в море из Путеол на десяти галерах, везя с собою целый склад декораций и театрального реквизита, а также изрядное число всадников и сенаторов, которых опасался оставить в Риме и которые, все до последнего, были обречены умереть во время предстоящего путешествия. В свиту императора входили Нат, его учитель пения, Клувий, человек с неслыханно зычным голосом, — его обязанностью было возглашать императорский титул — и тысяча молодых людей, натасканных и выученных встречать единодушным восторгом все, что ни споет или разыграет на сцене их владыка. Такою тонкой была эта выучка, что каждый исполнял свою, особую роль. Иные выражали свое одобрение без слов, одним только низким, грудным гулом. Другие, переходя от одобрения к полному неистовству, пронзительно орали, топали ногами, колотили палками по скамьям. Третьи — и эти были главною силой — переняли от александрийцев протяжный мелодический звук, похожий на жужжание пчелы, и издавали его все разом, так что он оглушал собрание. С помощью этих наемных поклонников Нерон — несмотря на посредственный голос и топорную манеру — вполне основательно рассчитывал вернуться в Рим с венками за искусство пения, которыми греческие города награждали победителей в открытом для всех состязании. Пока его большая позолоченная галера с двумя рядами гребцов плыла по средиземноморским водам к югу, император сидел целыми днями в своей каюте, бок о бок с учителем, и с утра до ночи твердил песни, которые выбрал, и каждые несколько часов нубийский раб растирал императорское горло маслом и бальзамом, приуготовляя его к тому великому испытанию, которое ему предстояло в стране поэзии и музыки. Пища, питье и все упражнения были строго расписаны заранее, словно у борца, который готовится к решающей схватке, и бряцание императорской лиры вперемежку со скрипучими звуками императорского голоса неслось беспрерывно из его покоев.
А случилось так, что в эти самые дни жил в Греции козопас по имени Поликл. Он был пастухом — а отчасти и владельцем — большого стада, которое щипало травку по склонам длинной гряды холмов вблизи Гереи, что в пяти милях к северу от реки Алфея и не так далеко от прославленной Олимпии. Этот человек был известен по всей округе редкими своими дарованиями и странным нравом. Он был поэт, дважды увенчанный лаврами за свои стихи, и музыкант, для которого звуки кифары были чем-то столь естественным и неотъемлемым, что легче было повстречать его без пастушеского посоха, чем без музыкального инструмента. Даже в одиноких зимних бдениях подле стада не расставался он с кифарою, но всегда носил ее за плечами и коротал с ее помощью долгие часы, так что она сделалась частью его «я». Вдобавок он был красив, смугл и горяч, с головою Адониса и такою силою рук, что никто не мог с ним тягаться. Но все было не впрок, все шло прахом из-за его характера, такого властного, что он не терпел никаких возражений. По этой причине он постоянно враждовал со всеми соседями и, в припадках дурного настроения, проводил иной раз целые месяцы в горной хижине, сложенной из камней, ничего не зная о мире и живя лишь для своей музыки да для своих коз.
Однажды утром, весною шестьдесят седьмого года, Поликл со своим рабом Дором перегнал коз повыше, на новое пастбище, откуда открывался далекий вид на город Олимпию. Глядя с горы вниз, пастух был изумлен, заметив, что часть знаменитого амфитеатра покрыта тентом, словно давали какое-то представление. Живя вдали от мира и всех его новостей, Поликл и вообразить не мог, что там готовится: ведь до греческих игр, как он отлично знал, оставалось еще целых два года. Да, несомненно, идут какие-то поэтические или музыкальные состязания, о которых он ничего не слышал. А ежели так, есть, пожалуй, кое-какие возможности склонить судей на свою сторону; да и без того он любил слушать новые сочинения и восхищался мастерством больших певцов, которые всегда собирались по таким случаям. И вот, кликнув Дора, он оставил коз на его попечение, а сам, с кифарою за спиной, быстро зашагал прочь, чтобы посмотреть, что происходит в городе.