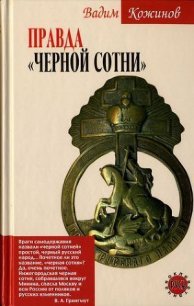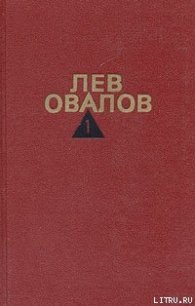Двадцатые годы - Овалов Лев Сергеевич (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
Слава закричал, но куда там, все спит в лунных лучах, никто ничего не слышит.
Что же делать? Вот-вот порвут…
Стой! Остановись, тебе говорят! Замри на месте!
Еще порыкивают псы, но тоже остановились.
А теперь медленно, шаг за шагом…
Вот и мостик. Вот и Поповка…
Теперь обогнуть Волковых…
Вот и дом. Свой дом. Подергал щеколду, не заперто!
За дверью свет. За столом мама, Петя и — почему он здесь? — Павел Федорович.
— Ах, Славушка…
Мама не сердится, мама рада ему!
— Раздевайся, садись. Как хорошо, что мы еще не легли…
На столе винегрет, пирог из ржаной муки с капустой.
— Выпей с нами, — говорит мама. — Выпьем еще раз за Новый год!
Мама из кувшина наливает в стаканы напиток неопределенного цвета.
Запрокинув голову, Петя пьет так отчаянно, точно этот напиток невесть какой крепости.
— Пью за Федора, — вполголоса произносит Павел Федорович. — Хотел бы я сейчас его видеть.
— Павел Федорович принес нам сегодня сушеных вишен, — говорит мама. — Я сварила, прибавила меду, так что у нас шампанское.
Слава решил быть с Павлом Федоровичем полюбезнее.
— А где же Марья Софроновна?
— Спит.
Спит, как спят все сейчас в Семичастной.
Потому-то Павел Федорович и навестил в эту ночь семью брата.
Марья Софроновна совсем прибрала его к рукам, и где же ему искать сочувствия, как не у невестки, которая ничего от него не требует.
В каждом человеке сочетается хорошее и плохое, и что в нем возобладает — добро или зло — зависит от многих обстоятельств.
Работники боялись Павла Федоровича, да и успенские мужики не считали его добрым, — долг не простит, проси не проси, взыщет без поблажек, крепенек, зубы об него обломишь, а на самом деле человек податливый, слабый, командовали им женщины, как скажут, так и поступит. Большую часть жизни смотрел из-под рук матери, а после ее смерти вьет из него веревки Марья Софроновна.
— Выпей, — обращается он к Славе. — Славный квасок изготовила твоя мама.
— Ну как праздновали? — интересуется Вера Васильевна.
Слава щадит мать. Расскажи он об Андриевском, мама будет волноваться.
— Танцы были, спектакль…
— А теперь выпьем за ваших сыновей, — предлагает Павел Федорович. — Россия теперь в их руки дадена. — Смотрит то на Петю, то на Славу, — Что касаемо Петра Николаевича, тут все ясно…
У Пети от удовольствия блестят глаза. Впервые его называют по отчеству.
— Петя парень трудящий, всю жизнь будет вкалывать… — Павел Федорович переводит взгляд на Славу. — А вот как ты, Вячеслав Николаевич, определишься, это еще надо поворожить…
— Славе надо учиться, — подсказывает Вера Васильевна. — Тогда что-нибудь и получится.
— А вот и нет, — возражает Павел Федорович. — Нынче учатся одни дураки. Хватать надо, смутное время не часто повторяется.
Вера Васильевна в недоумении:
— Что хватать?
— Да все, что лезет в руки. Счастье. Должность. Паек… — Павел Федорович видел — ничего-то Вера Васильевна не понимает. — Взять того же Быстрова. Ни образования, ни хозяйства. А в волости высшая власть. Сыт, пьян, лошадь чистых кровей, жена — генеральская дочь. А то, что убили, — чистый случай, найдет другую. Все его боятся, а мальчишки молятся на него, как на бога.
Услышь Слава год назад такую речь, он бы не простил Павлу Федоровичу ни одного слова, — увы, Слава на Быстрова уже не молится.
— Прав я или не прав? — обращается Павел Федорович к Славе.
— Нет, — твердо отвечает Слава, — коммунист ищет счастья не для себя лично, а для общего блага.
— Вот видите, — говорит Вера Васильевна. — Славе не нужно никаких должностей, он поступит в университет…
Но и мама не права.
— Нет, — возражает Слава, — я хочу работать. — Он поправился: — То есть не то что я зарекаюсь учиться, но некогда сейчас…
Тускло светит лампа. Петя моргает, он не привык не спать по ночам.
А Павел Федорович все сидит. Только ходики постукивают за стеной.
— Паш, Паш, где ты там? — послышался вдруг из-за стены голос Марьи Софроновны, чуть хрипловатый со сна и в то же время певучий, призывный. — Подай напиться.
Павел Федорович вскочил. Слава потянулся за стаканом, наполнил вишневым напитком.
— Нате, несите…
— Да ты што, — шепнул Павел Федорович. — Она убьет меня за эти вишни.
Неслышным шагом побежал за водой и пропал.
Мама обняла Петю, подвела к дивану, уложила, он мгновенно заснул.
Потом легла сама.
— Я посижу еще немного с тобой, — сказал Слава.
Он сел на постель. Ему так много хотелось ей сказать, уверить, что он оправдает ее надежды, но, так ничего не сказав, прикорнул к спинке кровати и задремал в ногах у матери.
8
Странная тянулась зима, длинная, если глядеть вперед, месяц за месяцем метели, морозы, сугробы, занесенные снегом проселки, школы с угарцем, печи топили соломой, и учительницы боялись упустить тепло, уроки, одинаковые по всей России, и короткая, если оглянуться назад, ни один день не повторим, не похож на другой.
Ознобишин не сидел на месте, ездил по деревням, и у него тоже ни один день не походил на другой.
На этот раз он крепко прибрал к рукам весь волостной комитет. «Будем много говорить, и половины дел не переделаем». Привез из Орла керосин и сразу не на склад в потребиловку, и даже не в кладовку к Григорию, а прямо в комитет, в свою канцелярию, за печку. Огнеопасно, зато целехонько, отсюда четвертинки не унести. Слава даже с Быстровым поцапался. «Достал? Молодец! Отлей для исполкома с полпуда, привезут в потребиловку — отдадим». — «Нет, Степан Кузьмич, не отолью». — «А куда столько?» — «Для изб-читален, будем неграмотность ликвидировать». — «Что-то ты голос начал поднимать?» — «Я не поднимаю, но у это о керосина целевое назначение…» И Быстров отступил: «Смотри, если узнаю, что попало куда-нибудь на сторону…» Для порядка Ознобишин созвал заседание волкомола. «Керосин только для ликбеза. Сколько у нас изб-читален? Девятнадцать? Всем по бутылке. А дальше смотря по успеваемости…» Сосняков, разумеется, встрял: «Мы это еще обсудим…» — «Я это еще в Москве обсудил». — «С кем это?» — «А с тем, кто поумнее тебя». И все. Раньше так только Быстров разговаривал. «А тебе, Сосняков, придется в Успенском задержаться, я по деревням буду мотаться, а ты здесь, в комитете командовать».
Вечером школы превращались в избы-читальни. Учительницы плакались: «У нас школьные тетради не проверены». — «Уж как-нибудь ночью, а это дело тоже откладывать нельзя». В школу сгоняли старух и допризывников. «Бабушки, будем учиться грамоте…» К большевистским затеям уже привыкли, не отвертишься. Слава начинал с чтения. Вслух. Читал «Дубровского». Иногда «Барышню-крестьянку». Реже стихи Некрасова. Потом приступала к делу учительница. «Слова состоят из букв… Буквы складываются в слоги…» Ученицы напряженно смотрели на черную доску. «Попробуйте записать». Ознобишин снова читал, на этот раз какую-нибудь статейку из газеты. «Могли бы и сами прочесть. Дайте срок, к весне начнете читать». Ночевать он оставался в школе, а наутро отправлялся в следующую деревню. Все это было бы скучно, если бы перед ним не возникали очертания преображенной страны.
В нем чувствовалась одержимость, которая действовала на окружающих. Ему не надоедало переезжать из деревни в деревню, беседовать со стариками, собирать молодежь, повторять изо дня в день: учиться, учиться… Учиться коммунизму!
Его одержимость заражала даже его противников. Уж на что были чужды коммунистические идеи Павлу Федоровичу, даже он посочувствовал если не идеям, то их проповеднику. В один из редких наездов домой Слава сразу устремился на кухню, заложил руки за спину и прижался к печке.
Маленький, посеревший от холода, он точно вбирал в себя тепло от печи.
Тут зашел на кухню Павел Федорович, достать уголька, прикурить, а увидел, можно сказать, своего классового противника.
— Замерз?
— Немного.