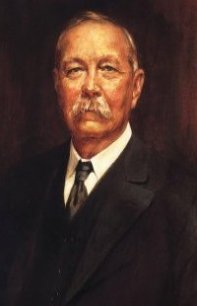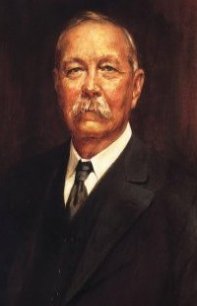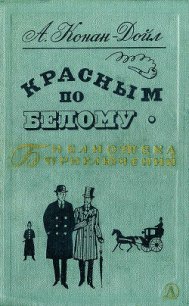Повести и рассказы разных лет - Дойл Артур Игнатиус Конан (лучшие книги читать онлайн txt) 📗
Мучительное и тяжкое занятие! Мне приходилось на ощупь прокладывать себе путь среди всевозможных обломков. Каждая отвоеванная пядь открывала моему взору все новые и новые ужасы. Когда я проходил, множество раненых страдальчески взывало к моей жалости, но их призывы были напрасны. Я не мог позволить себе остановиться. Я помнил лишь звук одного голоса, черты лишь одного бесконечно прекрасного и дорогого мне лица. И поскольку я нигде ее не видел, мои губы могли лишь молить Небо о том, чтобы она была жива.
Если только ее не стало, то зачем мне жить? ведь моя жизнь безраздельно принадлежала ей и только ей одной, и я охотно бы умер десять тысяч раз, лишь бы уберечь ее от тени печали.
Время мучительно тянулось, приближались ранние сумерки, а поиски мои все еще были напрасны. Я знал, что если я не найду ее сразу, то позднее сделать это будет куда труднее. Эта мысль удесятерила мои силы. Одна рука у меня была сломана — единственное повреждение, которое я получил в катастрофе — но я не замечал боли.
Я по-прежнему не обращал внимания на стоны и призывы несчастных, лежавших кругом меня. Я все шел и шел, пока не достиг места, где, как я знал, я найду ее мертвой или живой.
Внезапно я кинулся вперед, быстро, быстро, бросая круговые взгляды, в глазах застыла тревога, граничащая с безумием. Наконец я увидел ее. Этого было довольно.
С сердцем, неистово бившимся в груди, второй раз в жизни, я снова стоял на коленях рядом с Грейс Брертон. "Какой же рок, — спрашивал я себя, всякий раз помещает Джеффри Хита подле Грейс Брертон, когда с ней случается несчастье?" О, как я молил, чтоб оно всегда было так! Как я был бы тогда счастлив! Какой честью оказалось бы для меня посвятить свою жизнь тому, чтобы быть ее ангелом-хранителем, оберегать ее ото всех опасностей, какие могли бы угрожать ее юной и чистой жизни!
Стоя подле нее на коленях, я созерцал ее прекрасное лицо, черты которого всегда носил в своем сердце, и ее очи, свет которых ослеплял мою душу! Она не потеряла сознания, как то случилось в первый раз. Ее большие и чистые глаза с глубоким взглядом не были закрыты как при смерти. Она даже заметила меня, узнала, и улыбка, за которую я готов был отдать царство, будь оно у меня, пробежала по ее губам в минуту, когда она узнала меня. Она улыбнулась, но я все же понял, что она сильно страдает.
— Ах, — молвила она, — это снова вы! Как вы бесконечно добры! Вы, без сомнения, мой добрый ангел. Вы меня уже ведь спасли однажды.
— Я спас вас однажды?..
— О, нет, не смейте отрицать это. Вы были так предупредительны, так добры, я никогда этого не забуду.
Стало быть, она все знала! Кто-то — несомненно, старая камеристка — ей рассказала. Мысль о том, что она знает и что уважение ее ко мне не пострадало, заставила странно содрогнуться все мое существо.
Нежно, со всевозможными предосторожностями, положил я стройное тельце на свою здоровую руку. Грейс не была тяжелой, но вес, лежащий целиком на одной руке и на одном плече — на другую руку и плечо мне рассчитывать не приходилось — причинял мне жестокую боль.
Я, как мог, скрывал от нее свою изувеченную руку, и она так и не заметила, что я ранен. Грейс жаловалась лишь на рану на ноге, которая, говорила она, была придавлена каким-то обломком вагона. Она добавила, что боль не была сильной, но, судя по чрезвычайной бледности лица, черты которого болезненно исказились, она жестоко страдала. В нескольких сотнях ярдов от места катастрофы и в некотором отдалении от дороги, окаймлявшей железнодорожный путь, я заметил маленький домик со стенами из красного кирпича. Там-то я и сложил свою драгоценную ношу.
Тем временем все, что в человеческих силах, было сделано для облегчения страданий других пассажиров поезда. Мало кому из них удалось избежать ран более или менее серьезных. Множество людей приехало и пришло с соседней станции, и все лихорадочно работали над спасением жертв крушения и расчисткой железнодорожного пути. Из ближайших деревень приехало несколько врачей, и каждый из них деятельно и сколько доставало сил заботился о тех, кто получили самые тяжелые ранения.
Уверившись, что голубка моя в безопасности, на хорошей постели в одной из комнат небольшого коттеджа, я обратился к одному из врачей, человеку средних лет. В его пристальном и проницательном взоре, безошибочно определявшем серьезность каждого случая, казалось, сверкали молнии. Стоило взглянуть на него, и тут же возникала мысль — вот уж, точно, человек, который знает свое дело.
— Эта юная особа — мисс Грейс Брертон, знаменитая актриса, — сказал я.
Он, надо думать, верно истолковал напряженную озабоченность, выраженную на моих искаженных чертах, когда я спросил его мнение по поводу раны. Голос его дрожал от волнения и жалости, когда он отвечал мне:
— Весьма печально. Это, право слово, самый печальный случай из всех, какие мне доводилось видеть. Мисс Брертон больше не сможет выступать на сцене: она останется на всю жизнь калекой.
Минул год после трагического происшествия, о котором я только что рассказал, — всего лишь год, но мне он показался двадцатью годами, — и вот Грейс Брертон стала моей женой.
Я бы женился на ней гораздо раньше, позволь она мне это. Изо всех сил я стремился отстоять свое право работать и бороться ради нее; но моя милая из месяца в месяц, по своей деликатности, ничего не желала слышать о замужестве.
— У меня нет никакого права выходить за вас замуж, — говорила она. — Я могу быть вам только обузой, ведь профессия ваша требует полного внимания и напряжения сил.
Да, она говорила так, но она любила меня! И я знал, что она меня любит. Не то бы я скрылся с глаз ее и продолжал бы неотступно служить ей, не стесняя своим докучливым присутствием. Нет, нет, никогда я не мог бы пасть столь низко, чтобы думать только о себе и воспользоваться беспомощностью несчастной калеки.
Я остался, стало быть, рядом с нею, нисколько не смущая ее, моя преданность ей никогда не ослабевала, и я всеми силами давал ей понять, что без нее жизнь моя была бы мучительным одиночеством в безысходной пустоте.
Наконец-то моя любовь восторжествовала: та, что была самой знаменитой из актрис, та, которой поклонялись, словно богине, стала женою Джеффри Хита, нищего актера, ведущего тягостную борьбу за существование.
И тогда последовали годы небывалого напряжения, непрестанных трудов, годы, на протяжении которых я силился — о, как я работал! — добиться известности, с тем чтобы поднять свое имя на высоту, которую достигло имя моей возлюбленной, имя, бывшее у всех на устах и на слуху у каждого в кратковременную пору ее славы. Сколь недолог был триумф этого гениального дитя, и сколь, тем не менее, ярок и ослепителен!
Даже печаль высокого света, вследствие постигшего ее несчастья, изволила продлиться несколько недель. Все искренно сожалели о несчастной участи юной артистки, слава которой оказалась "самой яркой звездой театрального сезона".
Через год после нашей свадьбы у нас появилась восхитительная малышка. Мать захотела назвать ее Барбарой — это имя было ей особо дорого, и она произносила его с трогательной теплотой:
— Барбара Брертон — какое красивое имя! О, как оно будет смотреться на афише! — говорила она, ибо Грейс заставила меня пообещать, что наша девочка будет воспитана как будущая актриса.
— Если только она унаследовала хоть частицу таланта своей матери, то это будет великая актриса, — отвечал я.
Итак, нашей малютке предстояло стать артисткой. Увы! впоследствии мне не раз пришлось пожалеть об этом решении, и я готов был предпочесть, чтобы дочь моя умерла, так и не выйдя на подмостки, чем ослепила бы своей поразительной красотой всех, кто ее увидел в свете огней театральной рампы.
По просьбе моей возлюбленной супруги я начал обучение малышки Баб театральному искусству с самых младых лет. Ей было, наверное, не более восьми, когда я в присутствии матери дал ей первый урок. О, я прекрасно помню, как это было! Под моим руководством она целую неделю репетировала маленькие сценки, а затем я назначил день, когда она должна была сыграть перед нами всю пьесу.