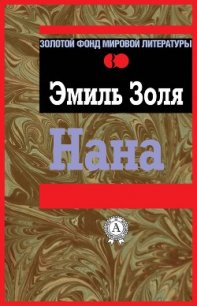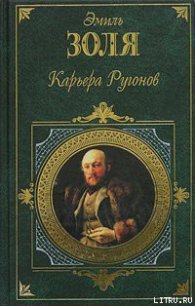Деньги - Золя Эмиль (книги бесплатно .txt) 📗
– Даю «всемирные» по три тысячи сорок, премия пятнадцать…
– Беру «всемирные» по три тысячи сорок, премия десять…
– Сколько?
– Двадцать пять. Пришлите!
Должно быть, Мазо исполнял теперь распоряжения Фейе, потому что многие провинциальные игроки, желая ограничить свой риск и не решаясь на покупки с непременной поставкой, покупали и продавали с премией. И вдруг толпа заволновалась, послышались прерывистые возгласы. «Всемирные» понизились на пять франков! Потом на десять, потом на пятнадцать франков и упали до трех тысяч двадцати пяти.
В эту самую минуту Жантру, который куда-то выходил и только что вернулся, шепнул на ухо Саккару, что баронесса Сандорф находится на улице Броньяр, в своем экипаже, и спрашивает у него, не следует ли ей продать. Этот вопрос в тот момент, когда курс начал колебаться, вывел Саккара из себя. Он живо представил себе неподвижного кучера на козлах, баронессу, изучающую свою записную книжку и устроившуюся как у себя дома за закрытыми окнами кареты.
– Пусть она убирается к черту! А если она продаст, я ее задушу.
Слух о понижении на пятнадцать франков дошел до Массиаса точно сигнал бедствия, и он сейчас же подбежал к Саккару, чувствуя, что понадобится ему. И действительно, Саккар, подготовивший, чтобы поднять последний курс, один трюк – телеграмму, которую должны были прислать с лионской биржи, где повышение было несомненно, – начал беспокоиться: телеграммы все еще не было, и это непредвиденное падение на пятнадцать франков могло привести к катастрофе.
Не останавливаясь перед Саккаром, Массиас на бегу искусно задел его локтем и, навострив уши, принял распоряжение:
– Живей к Натансону, четыреста, пятьсот, сколько понадобится.
Все это было проделано так быстро, что заметили только Пильеро и Мозер. Они кинулись за Массиасом, чтобы узнать, в чем дело. Массиас, с тех пор как он поступил на службу во Всемирный банк, сделался очень значительной особой. Все старались вызвать его на откровенность, прочитать через его плечо полученные им ордера. Да и сам он получал теперь прекрасные барыши. С веселым добродушием неудачника, которого до сих пор судьба не баловала, он удивлялся своему успеху, он теперь находил сносной эту собачью биржевую жизнь и уже не говорил больше, что здесь везет только евреям.
Внизу, в кулисе, в ледяном холоде галереи, которую ничуть не грело близкое к закату бледное солнце, акции Всемирного понижались не так быстро, как в «корзине», и Натансон, извещенный своими комиссионерами, сумел произвести арбитраж, что не удалось Делароку вначале: купив в зале по три тысячи двадцать пять, он перепродал под колоннадой по три тысячи тридцать пять. Это не заняло и трех минут, а он заработал шестьдесят тысяч франков. Благодаря уравновешивающему действию друг на друга этих двух рынков – легального и терпимого – эта покупка сразу подняла курс до трех тысяч тридцати. Агенты, локтями расталкивая толпу, безостановочно бегали из залы в галерею и обратно. Однако курс в кулисе уже готов был поколебаться, когда распоряжение, переданное Массиасом Натансону, удержало его на трех тысячах тридцати, затем повысило до трех тысяч сорока. Между тем, благодаря этому контрудару, акции и наверху, в «паркете», тоже вернулись к первоначальному курсу. Однако поддерживать его было трудно, так как тактика Якоби и других маклеров, действующих от имени понижателей, видимо заключалась в том, чтобы приберечь большие продажи к концу биржевого дня, запрудить рынок акциями и, воспользовавшись паникой последнего получаса, вызвать падение курса. Саккар отлично понял опасность и условным знаком предупредил Сабатани, который в нескольких шагах от него курил папироску с рассеянным и томным видом любимца женщин. Со змеиной гибкостью тот немедленно проскользнул в «гитару» и, прислушиваясь, напряженно следя за курсом, начал беспрерывно посылать Мазо ордера на зеленых фишках, которые имелись у него в запасе. И все-таки натиск был так силен, что «всемирные» упали на пять франков.
Часы пробили три четверти, оставалось лишь четверть часа до закрытия. Толпа теперь кружилась и кричала, словно подстегиваемая каким-то адским вихрем. «Корзина» выла и рычала; оттуда доносились такие звуки, словно кто-то бил в медные котлы. И вот тогда-то произошло событие, которого с таким тревожным нетерпением ждал Саккар.
Юный Флори, с самого открытия каждые десять минут приносивший с телеграфа целые кипы телеграмм, появился опять, расталкивая толпу и читая на ходу телеграмму, которая, по-видимому, приводила его в восторг.
– Мазо! Мазо! – крикнул чей-то голос.
И Флори инстинктивно повернул голову, словно назвали его собственное имя. Это был Жантру, которому хотелось узнать, в чем дело. Но Флори оттолкнул его; он слишком спешил, он был переполнен радостью при мысли о том, что Всемирный кончит повышением, ибо телеграмма извещала, что на лионской бирже акции поднялись в цене, что там были заключены такие крупные сделки, которые не могли не повлиять на парижскую биржу. И действительно, уже начали прибывать и другие телеграммы, многие маклеры получили ордера на покупку. Результат сказался немедленно и был весьма значителен.
– Беру «всемирные» по три тысячи сорок, – повторял Мазо своим пронзительным, как квинта, голосом.
И Деларок, осаждаемый спросом, надбавил пять франков:
– Беру по три тысячи сорок пять.
– Даю по три тысячи сорок пять, – ревел Якоби. – Двести по три тысячи сорок пять.
– Пришлите.
Тогда повысил и Мазо:
– Беру по три тысячи пятьдесят.
– Сколько?
– Пятьсот… Пришлите…
Но к этому времени шум, сопровождавшийся дикой, эпилептической жестикуляцией, сделался до того оглушителен, что сами маклеры уже не слышали друг друга. В пылу профессионального азарта они стали объясняться жестами, так как утробные басы терялись в общем гуле, а тонкие, как флейта, голоса замирали, превращаясь в писк. Видны были широко разинутые рты, но казалось, что из них не вылетает ни звука, говорили только руки: жест от себя означал предложение, жест к себе – спрос; поднятые пальцы указывали цифру, движение головы – согласие или отказ. Это был язык, понятный только посвященным; можно было подумать, что припадок безумия охватил разом всю толпу. Сверху, с телеграфной галереи, смотрели вниз женщины, пораженные и напуганные этим необычайным зрелищем. В отделении ренты, где было особенно горячо, происходила форменная драка, чуть ли не кулачный бой, а двойной поток публики, сновавший взад и вперед в этой части зала, то и дело разбивал группы, которые немедленно сходились вновь. Между отделением наличного счета и «корзиной», возвышаясь над бушующим морем голов, одиноко сидели на своих стульях три котировщика, похожие на обломки крушения, вынесенные волнами; наклонясь над большими белыми пятнами своих книг, они разрывались на части, ловя на лету быстрые изменения колеблющегося курса, которые им бросали то справа, то слева. В отделении наличного счета свалка перешла все границы: лиц уже нельзя было разобрать, это была какая-то плотная масса голов, темная кишащая масса, над которой выделялись маленькие белые листочки мелькавших в воздухе записных книжек. А в «корзине», вокруг бассейна, теперь уже полного смятых фишек всех цветов, серебрились седые шевелюры, блестели лысины, виднелись бледные искаженные физиономии, судорожно вытянутые руки; словно в движении неистового танца, все эти человеческие фигуры лихорадочно тянулись друг к другу и, кажется, разорвали бы друг друга, если бы их не удерживал барьер. Эта бешеная горячка последних минут передалась и публике: в зале была страшная давка, беспорядочная толкотня, чудовищный топот большого табуна, загнанного в слишком узкое помещение; шелковые цилиндры блестели на фоне темных сюртуков в рассеянном свете, проникавшем сквозь стекла.