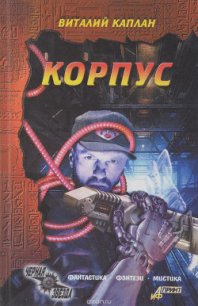Раковый корпус - Солженицын Александр Исаевич (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
— А вы — за мужа? Или сами по себе? Так же прямо и сразу ответила и она, будто он её о дежурстве спрашивал:
— Всей семьёй. Кто за кого — не поймёшь.
— И сейчас все вместе?
— О, нет! Дочь в ссылке умерла. После войны переехали сюда. Отсюда мужа взяли на второй круг, в лагерь.
— И теперь вы одна?
— Сынишка. Восемь лет.
Олег смотрел на её лицо, не задрожавшее к жалости.
Ну, да ведь они о деловом говорили.
— На второй — в сорок девятом?
— Да.
— Нормально. А какой лагерь?
— Станция Тайшет. Опять кивнул Олег:
— Ясно. Озерлаг. Он может быть и у самой Лены, а почтовый ящик — Тайшет.
— И вы там были?? — вот надежды сдержать она не могла!
— Нет, но просто знаю. Все ж пересекается.
— Дузарский!?? Не встречали?… Нигде?… Она всё-таки надеялась! Встречал… Сейчас расскажет… Дузарский?… Чмокнул Олег: нет, не встречал. Всех не встретишь.
— Два письма в год! — пожаловалась она. Олег кивал. Все — нормально.
— А в прошлом году пришло одно. В мае. И с тех пор нет!.. И вот уже дрожала на одной ниточке, на одной ниточке.
Женщина.
— Не придавайте значения! — уверенно объяснял Костоглотов. — От каждого два письма в год — это знаете, сколько тысяч? А цензура ленивая. В Спасском лагере пошёл печник, зэк, проверять печи летом — ив цензурной печке сотни две неотправленных писем нашёл. Забыли поджечь.
Уж как он ей мягко объяснял и как она давно ко всему должна была привыкнуть, — а смотрела сейчас на него диковато-испуганно.
Неужели так устроен человек, что нельзя отучить его удивляться?
— Значит, сынишка в ссылке родился? Она кивнула.
— И теперь на вашу зарплату надо его поставить? А на высшую работу нигде не берут? Везде попрекают? В какой-нибудь конурке живёте?
Он вроде спрашивал, но вопроса не было в его вопросах. И так это всё было ясно до кислоты в челюстях.
На толстенькой непереплетенной книжечке изящного малого формата, не нашей бумаги, с легко-зазубристыми краями от давнишнего разреза страниц, Елизавета Анатольевна держала свои небольшие руки, измочаленные стирками, половыми тряпками, кипятками, и ещё в синяках и порубах.
— Если б только в этом, что конура! — говорила она. — Но вот беда: растёт умный мальчик, обо всём спрашивает — и как же его воспитывать? Нагружать всей правдой? Да ведь от неё и взрослый потонет! Ведь от неё и ребра разорвёт! Скрывать правду, примирять его с жизнью? Правильно ли это? Что сказал бы отец? Да ещё и удастся ли? — мальчонка ведь и сам смотрит, видит.
— Нагружать правдой! — Олег уверенно вдавил ладонь в настольное стекло. Он так сказал, будто сам вывел в жизнь десятки мальчишек — и без промаха.
Она выгнутыми кистями подпёрла виски под косынкой и тревожно смотрела на Олега. Коснулись её нерва!
— Так трудно воспитывать сына без отца! Ведь для этого нужен постоянный стержень жизни, стрелка — а где её взять? Вечно сбиваешься — туда, сюда…
Олег молчал. Он и раньше слышал, что это так, а понять не мог.
— И вот почему я читаю старые французские романы, да впрочем только на ночных дежурствах. Я не знаю, умолчали они о чем-нибудь более важном или нет, шла в то время за стенами такая жестокая жизнь или нет — не знаю и читаю спокойно.
— Наркоз?
— Благодеяние, — повела она головой белой монашки. — Близко я не знаю книг, какие бы не раздражали. В одних — читателя за дурачка считают. В других — лжи нет, и авторы поэтому очень собой гордятся. Они глубокомысленно исследуют, какой просёлочной дорогой проехал великий поэт в тысяча восемьсот таком-то году, о какой даме упоминает он на странице такой-то. Да может это им и нелегко было выяснить, но как безопасно! Они выбрали участь благую! И только до живых, до страдающих сегодня — дела им нет.
Её в молодости могли звать — Лиля. Эта переносица ещё не предполагала себе вмятины от очков. Девушка строила глазки, фыркала, смеялась, в её жизни были и сирень, и кружева, и стихи символистов — и никакая цыганка никогда ей не предсказала кончить жизнь уборщицей где-то в Азии.
— Все литературные трагедии мне кажутся смехотворными по сравнению с тем, что переживаем мы, — настаивала Елизавета Анатольевна. — Аиде разрешено было спуститься к дорогому человеку и с ним вместе умереть. А нам не разрешают даже узнать о нём. И если я поеду в Озерлаг…
— Не езжайте! Всё будет зря.
— … Дети в школах пишут сочинения: о несчастной, трагической, загубленной, ещё какой-то жизни Анны Карениной. Но разве Анна была несчастна? Она избрала страсть — и заплатила за страсть, это счастье! Она была свободный гордый человек! А вот если в дом, где вы родились и живёте отроду, входят в мирное время шинели и картузы — и приказывают всей семье в двадцать четыре часа покинуть этот дом и этот город только с тем, что могут унести ваши слабые руки?…
Всё, что эти глаза могли выплакать — они выдали давно, и вряд ли оттуда ещё могло течь. И только, может быть, на последнюю анафему ещё мог вспыхнуть напряжённый сухой огонёк.
— … Если вы распахиваете двери и зовёте прохожих с улицы, чтоб, может, что-нибудь купили бы у вас, нет — швырнули б вам медяков на хлеб! И входят нанюханные коммерсанты, все на свете знающие, кроме того, что и на их голову ещё будет гром! — и за рояль вашей матери бесстыдно дают сотую долю цены, — а девочка ваша с бантом на голове последний раз садится сыграть Моцарта, но плачет и убегает, — зачем мне перечитывать "Анну Каренину"? Может быть мне хватит и этого?… Где мне о наспрочесть, о нас? Только через сто лет?
И хотя она почти перешла на крик, но тренировка страха многих лет не выдала её: она не кричала, это не крик был. Только и слышал её — Костоглотов.
Да может ещё Сибгатов из тазика.
Не так было много примет в её рассказе, но и не так мало.
— Ленинград? — узнал Олег. — Тридцать пятый год?
— Узнаете?
— На какой улице вы жили?
— На Фурштадтской, — жалобно, но и чуть радостно протянула Елизавета Анатольевна. — А вы?
— На Захарьевской. Рядом!
— Рядом… И сколько вам тогда было лет?
— Четырнадцать.
— И ничего не помните?
— Мало.
— Не помните? Как будто землетрясение было — нараспашку квартиры, кто-то входил, брал, уходил, никто никого не спрашивал. Ведь четверть города выселили. А вы — не помните?…
— Нет, помню. Но вот позор: это не казалось самым главным. В школе нам объясняли, зачем это нужно, почему полезно.
Как кобылка туго занузданная, стареющая санитарка поводила головой вверх и вниз:
— О блокаде — все будут говорить! О блокаде — поэмы пишут! Это разрешено. А до блокады как будто ничего не было.
Да, да. Вот так же в тазике грелся Сибгатов, вот на этом месте Зоя сидела, а на этом же — Олег, и за этим столиком, при этой лампе они разговаривали — о блокаде, о чём же?
До блокады ведь ничего в том городе не случилось.
Олег вздохнул, боковато подпёр голову локтем и удручённо смотрел на Елизавету Анатольевну.
— Стыдно, — сказал он тихо. — Почему мы спокойны, пока не трахнет нас самих и наших близких? Почему такой человеческий характер?
А ещё ему стало стыдно, что выше памирских тиков вознёс он эту пытку: что надо женщине от мужчины? не меньше — чего? Как будто на этом одном заострилась жизнь. Как будто без этого не было на его родине ни муки, ни счастья.
Стыдно стало — но и спокойней гораздо. Чужие беды, окатывая, смывали с него свою.
— А за несколько лет до того, — вспоминала Елизавета Анатольевна, — выселяли из Ленинграда дворян. Тоже сотню тысяч, наверно — а мы очень заметили? И какие уж там оставались дворянишки! — старые да малые, беспомощные. А мы знали, смотрели и ничего: нас ведь не трогали.
— И рояли покупали?
— Может быть и покупали. Конечно, покупали.
Теперь-то Олег хорошо разглядел, что женщине этой ещё не было и пятидесяти лет. А уже шла она по лицу за старушку. Из-под белой косынки вывисала по-старчески гладкая, бессильная к завиву космочка.