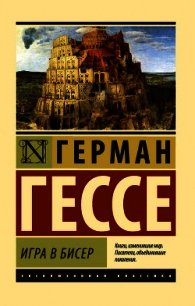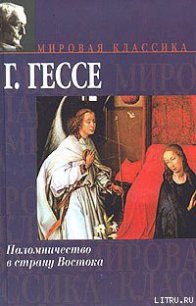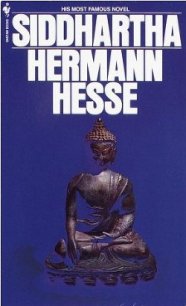Игра в бисер - Гессе Герман (читать книги онлайн бесплатно полные версии .txt) 📗
Жертвоприношение состоялось в тот же день. Пришла бы вся деревня, но многие лежали, страдая кровавым поносом, и Ада тоже была тяжело больна. Туру в его мантии и высокой лисьей шапке чуть не свалил тепловой удар. Пришли, за исключением больных, все уважаемые и важные лица, родоначальница с двумя сестрами, старейшины, предводитель барабанного хора Маро. Позади, в беспорядке, следовало простонародье. Никто не бранил старого кудесника, все были довольно молчаливы и подавлены. Отправились в лес и отыскали там большую округлую поляну, ее Кнехт сам выбрал местом обряда. Большинство мужчин захватило каменные топоры, чтобы приготовить дрова для костра. Придя на поляну, поставили кудесника посредине и образовали около него маленький круг, поодаль, образуя круг побольше, стояла толпа. Поскольку все нерешительно и смущенно молчали, слово взял сам кудесник.
– Я был вашим кудесником, – сказал он, – я много лет делал свое дело как умел. Теперь демоны против меня, мне уже ничего не удается. Поэтому я решил принести себя в жертву. Это умиротворит демонов. Мой сын Туру будет вашим новым кудесником. А сейчас убейте меня и, когда я умру, точно следуйте указаниям моего сына. Прощайте! Кто же убьет меня? Я предлагаю барабанщика Маро, он человек для этого подходящий.
Он умолк, и никто не шевельнулся. Туру, побагровев под тяжелой меховой шапкой, затравленно оглядел круг, рот его отца насмешливо искривился. Наконец родоначальница гневно топнула ногой, подозвала кивком головы Маро и прикрикнула на него:
– Вперед же! Возьми топор и сделай это!
Маро, с топором в руках, стал перед своим бывшим учителем, он ненавидел его еще больше, чем когда-либо, насмешливое выражение этого молчаливого старого рта причиняло ему жестокую боль. Он поднял топор, занес его, задержал, прицеливаясь, в воздухе и, глядя жертве в лицо, подождал, чтобы та закрыла глаза. Однако Кнехт не сделал этого, он по-прежнему держал глаза открытыми и глядел на человека с топором, глядел почти без выражения, но то, что взгляд его все-таки выражал, колебалось между жалостью и насмешкой.
Маро в ярости отшвырнул топор.
– Я этого не сделаю, – пробормотал он, протиснулся через круг важных лиц и затерялся в толпе. Некоторые тихонько засмеялись. Родоначальница побледнела от злости, гневаясь на негодного труса Маро не меньше, чем на этого заносчивого кудесника. Она кивнула одному из старейшин, почтенному, тихому человеку, который стоял, опершись на свой топор, и, казалось, стыдился всей этой неприятной сцены. Он выступил вперед, коротко и ласково кивнул жертве, они знали друг друга с детства, и теперь жертва с готовностью закрыла глаза, Кнехт плотно сомкнул их и немного наклонил голову. Старик ударил его топором, он упал. Туру, новый кудесник, не мог выговорить ни слова, только жестами отдавал он необходимые распоряжения, и вскоре костер был сложен и мертвец водружен на него. Торжественный ритуал протыкания пламени двумя освященными шестами был первым действием Туру на новой должности.
Исповедник
Это было во времена, когда святой Иларион был еще жив, хотя и пребывал уже в преклонном возрасте; в городе Газе жил тогда некто Иозефус Фамулюс, [54] до тридцати лет и дольше он вел обычную мирскую жизнь и изучал языческие книги, а потом, познакомившись, благодаря одной женщине, которую он преследовал, с божественным учением и сладостью христианских добродетелей, принял святое крещение, отрекся от своих грехов и много лет просидел у ног пресвитеров своего города, слушая с особенно жгучим любопытством любимые всеми рассказы о жизни в пустыне благочестивых отшельников, пока однажды, года в шестьдесят три, не вступил на тот путь, которым шли до него святые Павел и Антоний и на который с тех пор вступало много благочестивых людей. Передав остаток своего имущества старейшинам, чтобы раздать его беднякам общины, он простился у ворот с друзьями и перебрался из города в пустыню, из презренного мира в бедную жизнь подвижника.
Много лет сох он под палящим солнцем, стирал себе, молясь, колени о камни и о песок, постился, дожидаясь захода солнца, чтобы сжевать несколько фиников; когда бесы изводили его искусами, насмешками и соблазнами, он побивал их молитвой, покаянием, самоуничижением, как все это мы можем прочесть в жизнеописаниях блаженных отцов. Многими ночами также взирал он недреманно на звезды, и звезды тоже соблазняли и смущали его, он распознавал созвездия, в которых когда-то учился узнавать истории богов и символы человеческой природы – это ненавистное пресвитерам знание еще долго донимало его фантазиями и мыслями, оставшимися от его языческой поры.
Повсюду, где в тех местах голая бесплодная пустыня прерывалась родником, клочком зелени, маленьким или большим оазисом, жили тогда отшельники, одни в полном одиночестве, другие маленькими братствами, как то изображено на одной стене пизанского кладбища, жили в бедности и любви к ближнему, приверженцами некоей тоскливой ars moriendi, некоего искусства умирания, ухода от мира и собственного «я» и перехода к нему, Спасителю, в царство светлого и нетленного. Посещаемые ангелами и бесами, они сочиняли гимны, изгоняли демонов, исцеляли, благословляли, как бы задавшись целью возместить земную радость, грубость и похоть многих минувших и многих будущих эпох мощной волной энтузиазма и самоотверженности, экстатической мерой отречения от мира. Иные из них пользовались, видимо, старыми языческими приемами очищения, методами и упражнениями веками культивировавшейся в Азии техники одухотворения, но об этом не принято было говорить, и эти методы, эти упражнения по системе йогов не то что не преподавались, а находились под запретом, который христианство все строже накладывало на все языческое.
Во многих пустынниках накал этой жизни родил особые дарования, дар молитвы, дар исцелять прикосновением рук, дар пророчества, дар изгонять беса, дар судить и карать, утешать и благословлять. В Иозефусе тоже дремал некий дар, который с годами, когда его волосы побелели, достиг расцвета. Это был дар слушать. Если к Иосифу приходил брат из какой-нибудь обители или какой-нибудь терзаемый и гонимый совестью мирянин и сообщал ему о своих делах, страданиях, соблазнах и прегрешениях, рассказывал о своей жизни, о своей борьбе за добро и о своем поражении в этой борьбе или о какой-нибудь потере и боли, о какой-нибудь печали, Иосиф умел выслушать его, открыть и отдать ему свой слух и свое сердце, принять и вобрать в себя его беду и заботу, отпустить его облегчившим душу и успокоившимся. Мало-помалу за долгие годы обязанность эта совсем подчинила его себе и сделала своим орудием, ухом, которому дарили доверие. Какое-то особое терпение, какая-то засасывающая пассивность и великая молчаливость были его добродетелями. Все чаще приходили к нему люди, чтобы выговориться, чтобы освободиться от накопившихся печалей, и иные, даже если им надо было проделать к его тростниковому шалашу долгий путь, не находили в себе, прибыв и поздоровавшись, свободы и храбрости для исповеди, а виляли и стыдились, набивали своим грехам цену, вздыхали и долго, часами, отмалчивались, а он был одинаков со всеми, говорили ли они охотно или с отвращением, гладко или с запинками, яростно ли сбрасывали с себя свои тайны или кичились ими. Для него все были одинаковы, винили ли они бога или себя, преувеличивали или преуменьшали свои грехи и страдания, исповедовались ли в убийстве или только в распутстве, жаловались ли на неверную возлюбленную или на то, что не спасли свою душу. Он не пугался, если кто-то рассказывал ему о своих близких отношениях с демонами и был, по-видимому, на дружеской ноге с чертом, не досадовал, если кто-то говорил долго и многословно, но явно умалчивая при этом о главном, не выходил из терпения, если человек обвинял себя в бредовых и выдуманных грехах. Все жалобы, признания, обвинения и муки совести, с которыми являлись к нему, входили в него, казалось, как вода в песок пустыни, казалось, он не имел о них никакого суждения и не испытывал к исповедовавшимся ни презрения, ни сочувствия, и тем не менее, или, быть может, именно поэтому, всё, что ему поверяли, казалось не брошенным на ветер, а преображенным, облегченным и разрешенным благодаря тому, что это сказано и услышано. Лишь изредка увещевал он и предостерегал, еще реже давал советы, а тем более приказывал; это, казалось, не было его обязанностью, и говорившие тоже, казалось, чувствовали, что это не его обязанность. Его обязанностью было будить и принимать доверие, терпеливо и любовно выслушивать, помогая тем самым окончательно сложиться еще не сложившейся исповеди, его обязанностью было побуждать все, что скопилось или затвердело в душе, излиться, вылиться, чтобы принять это в себя и облечь в молчание. Да разве что в конце каждой исповеди, ужасной или невинной, сокрушенной или тщеславной, он велел исповедовавшемуся стать рядом с ним на колени, читал «Отче наш» и, прежде чем отпустить его, целовал его в лоб. Налагать епитимьи или кары не входило в его обязанности, не чувствовал он себя также уполномоченным отпускать грехи, как настоящий священник, ни судить, ни прощать вину не было его делом. Слушая и понимая, он, казалось, брал часть вины на себя, помогал нести ее бремя. Храня молчание, он, казалось, погружал куда-то услышанное, передавал его прошлому. Молясь после исповеди вместе с пришельцем, он, казалось, принимал его в братья, признавал в нем равного себе. Целуя его, он, казалось, благословлял его скорее по-братски, чем по-священнически, скорее ласково, чем торжественно.
54
Famulus (лат.) – слуга.