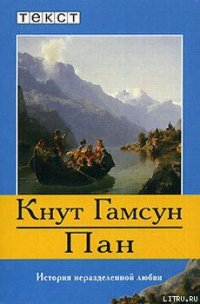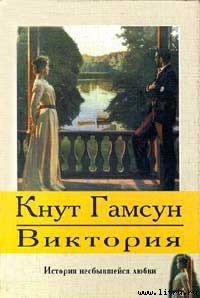Голод - Гамсун Кнут (бесплатные книги онлайн без регистрации txt) 📗
Какой-то каменщик ползал по гранитной плите неподалеку от меня и высекал надпись; он был в темных очках и вдруг напомнил мне одного моего знакомого, которого я почти забыл, – тот человек служил в банке, и я встретился с ним как-то в кофейне.
Если б только я мог преодолеть свой стыд и обратиться к нему! Сказать ему всю правду о том, как мне теперь тяжко, как трудно добывать пропитание! Я мог бы отдать ему книжку с талонами на бритье… Ах, черт, я совсем позабыл про эту книжку! А там талонов почти на крону! Взволнованный, я начинаю искать свое сокровище. Не найдя сразу, я вскакиваю, шарю в холодном поту от страха, и наконец нахожу ее на дне бокового кармана вместе с чистыми и исписанными листками, не имеющими никакой ценности. Я несколько раз пересчитываю эти шесть талонов от начала, потом от конца; мне они не очень нужны, – я больше не хочу бриться, такая уж у меня прихоть, фантазия. Я мог бы иметь вместо них полкроны, блестящую монету из конгсбергского серебра! Банк закрывается в шесть, я могу дождаться своего знакомого у кофейни, он придет часов в семь или в восемь.
Я долго радовался этой мысли. Время шло, в листве каштанов вокруг меня шумел ветер, день клонился к вечеру. Но разве не унизительно соваться с шестью талончиками к молодому человеку, служащему в банке? Как знать, может, у него целых две пухлых книжки в кармане, а талоны в них красивее и чище, чем мои. И я шарил по карманам в надежде найти еще что-нибудь подходящее и предложить ему в придачу, но ничего не нашел. А что, если предложить ему мой галстук? Я отлично могу обойтись и без него, стоит только плотно застегнуть куртку, а мне и без того приходится это делать; "раз у меня нет жилета. Я снял галстук, завязанный большим бантом и закрывавший едва ли не половину моей груди, тщательно почистил его и вместе с книжкой завернул в кусок белой бумаги. Потом покинул кладбище и пошел в город.
Часы на ратуше показывали семь. Я держался поблизости от кофейни, прохаживался взад-вперед вдоль железной решетки и внимательно оглядывал всех, кто входил и выходил. Наконец, около восьми я увидел молодого человека, чисто и элегантно одетого, который направлялся к дверям кофейни. Когда я увидел его, сердце у меня в груди затрепыхалось, как птичка, и я, не здороваясь, набросился на него.
– Дайте полкроны, старый друг! – нагло сказал я. – А вот это вам в залог. – И я сунул маленький сверток ему в руку.
– Не могу! – сказал он. – Видит бог, у меня ничего нет! – И он вывернул свой кошелек наизнанку перед самым моим носом. – Вчера вечером я развлекался и теперь сижу на мели. Поверьте, у меня ничего нет.
– Ну не беда, друг мой! – ответил я, поверив ему на слово.
Ведь он, конечно, не стал бы лгать из-за такого пустяка; мне даже показалось, что его серые глаза увлажнились, когда он рылся в карманах и ничего не находил. Я отошел.
– В таком случае, извините! – сказал я. – Просто я попал в некоторое затруднение.
Я уже отошел довольно далеко, когда он окликнул меня и напомнил о свертке.
– Оставьте, оставьте его у себя! – откликнулся я. – Сделайте мне удовольствие! Там несколько безделок, мелочь – едва ли не все, что у меня есть на свете.
Я был растроган собственными словами, они прозвучали так безутешно в вечерних сумерках, и я заплакал…
Ветер свежел, тучи быстро неслись по небу, и с наступлением сумерек становилось все холоднее. Я шел по улице и плакал, все больше и больше жалея себя, то и дело у меня вырывались несколько слов, восклицание, от которого слезы, утихшие было, снова наворачивались на глаза:
– Боже, как мне тяжко! Боже, как тяжко!
Прошел час, он тянулся так медленно, что казался бесконечным. Я долго пробыл на Турвгаде, сидел на ступеньках у дверей, прятался в подворотнях, когда кто-нибудь проходил мимо, бессмысленно смотрел через освещенные витрины на сновавших в лавках покупателей и, наконец, нашел уютное местечко за штабелем досок, между церковью и базаром.
В лес я идти не мог даже под страхом смерти – в тот вечер у меня не было сил, а путь казался таким нескончаемо долгим. Я решил, что как-нибудь протяну ночь здесь, никуда не пойду; если меня одолеет холод, поброжу вокруг церкви, стесняться тут особенно нечего. Я прислонился к доскам и задремал.
Понемногу стало тише, лавки закрывались, шаги прохожих раздавались все реже, наконец, в окнах погас свет…
Я открыл глаза и увидел перед собой какого-то человека; блестящие пуговицы бросились мне в глаза, и я понял, что это полицейский; лица видно не было.
– Добрый вечер! – сказал он.
– Добрый вечер! – испуганно ответил я. И встал, чувствуя неловкость.
Он постоял немного без движения.
– Где вы живете? – спросил он.
По старой привычке я, не задумываясь, назвал свой старый адрес, где жил недавно в каморке на чердаке.
Он еще немного постоял молча.
– Я сделал что-нибудь дурное? – со страхом спросил я.
– Что вы, вовсе нет! – отвечал он. – Но лучше бы вам пойти домой, здесь вы замерзнете.
– Да, это верно, сегодня свежо.
Я пожелал ему покойной ночи и непроизвольно направился к своему прежнему дому. Соблюдая осторожность, я мог пробраться наверх, никого не потревожив; на лестнице было всего восемь ступеней, и только две верхние грозили скрипнуть.
Я разулся на пороге и пошел. В доме было тихо; на втором этаже я услышал медленное тиканье часов и негромкий плач ребенка; больше я не слышал ни звука. Я отыскал свою дверь, приподнял ее на петлях, открыв, по обыкновению, без ключа, вошел в комнату и бесшумно затворил дверь за собой.
В каморке ничто не переменилось, занавески на окнах были отдернуты, кровать пуста. На столе я увидел бумагу, очевидно, это была моя записка; хозяйка даже не заглянула сюда после моего ухода. Я ощупываю рукой белый квадратик и с удивлением обнаруживаю, что это письмо. Но от кого? Я несу его к окну, разбираю в полутьме каракули и наконец нахожу свое имя. «Ага! – думаю я. – Верно, это от хозяйки, она запрещает мне входить в комнату, если я вздумаю вернуться!»
И медленно, очень медленно, я снова ухожу, неся башмаки в одной руке, письмо в другой и одеяло под мышкой. Я иду на цыпочках, стискиваю зубы, когда ступаю на скрипящие ступени, благополучно преодолеваю лестницу и оказываюсь в подъезде.
Я снова надеваю башмаки, долго вожусь со шнурками, сижу несколько времени, бессмысленно глядя перед собой и держа письмо в руке.
Потом встаю и ухожу.
На улице мерцает газовый фонарь, я иду поближе к свету, кладу сверток у столба и медленно, очень медленно вскрываю письмо.
Внутри у меня словно вспыхивает пламя, я слышу свой слабый крик, бессмысленный, радостный возглас. Письмо от редактора, мой фельетон принят и уже отправлен в типографию! «Несколько мелких поправок… две-три случайные описки… очень талантливо… будет напечатано завтра… десять крон».
Смеясь и плача, я пустился бежать по улице, потом остановился, упал на колени, молил всех святых неведомо о чем… А время шло.
Всю ночь до утра я бродил по улицам, обезумев от радости, и повторял:
– Талантливо, значит, маленький шедевр, гениальная вещь. И десять крон!
2
Недели через две, как-то вечером, я ушел из дому.
Я снова сидел на кладбище и писал статью для одной из газет; я проработал до десяти, стало темнеть, скоро сторож должен был запереть ворота. Меня мучил голод, сильный голод. Тех десяти крон, к сожалению, хватило ненадолго; я уже не ел два, почти три дня и чувствовал слабость, мне было трудно даже водить карандашом по бумаге. В кармане у меня был сломанный перочинный ножик и связка ключей, но ни единой монетки.
Так как кладбищенские ворота запирались, мне, конечно, следовало пойти домой; но из бессознательного страха перед своим жилищем, где было темно и пусто, перед заброшенной мастерской жестянщика, где мне в конце концов позволили ютиться до поры до времени, я поплелся куда глаза глядят, мимо ратуши, к набережной, и дальше, к вокзалу, где наконец сел на скамейку.