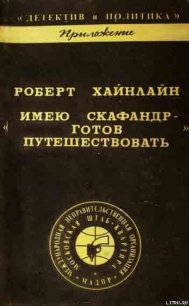Да будет фикус - Оруэлл Джордж (читать книги онлайн без .TXT) 📗
Между тем потребовалось зарабатывать. Мать, которая до замужества обучала музыке, а иной раз и потом, в моменты безденежья, брала учеников, решила возобновить это занятие. Найти учеников в Эктоне, их предместье, было нетрудно; платы за уроки и вкладов Джулии хватило бы, вероятно, «справляться» пару лет. Только вот слабенькое здоровье миссис Комсток стало как-то совсем уж слабым. Ездивший к умиравшему мужу доктор, прослушав ее легкие, хмуро покачал головой и рекомендовал беречь себя, теплее одеваться, есть питательную пищу, а, главное, не переутомляться. Нервозная возня с учениками тут подходила хуже не придумаешь. Сын, правда, ничего об этом не знал. Но Джулия знала, и они с матерью таили от дорогого мальчика грустный диагноз.
Прошел год. Гордон провел его довольно безрадостно, все более мрачнея из-за обтерханных обшлагов и жалкой мелочи в кармане, что совершенно уничтожало его перед девушками. Однако в «Новом веке» тиснули его стишок. Мать пока за два шиллинга в час мучилась в промозглых гостиных на фортепианных табуретках. Но наконец Гордон кончил школу, и докучливо суетливый дядя Уолтер вызвался через одного делового приятеля своего делового приятеля попробовать устроить его на «хорошее место» – счетоводом в фирме кровельных красок. Роскошное место, блестящее начало! Юноше открывается возможность при надлежащем упорстве и прилежании подняться там со временем до самых солидных постов! Душа Гордона заныла. Как свойственно порой слабым натурам, он вдруг взбрыкнул и, к ужасу родни, наотрез отказался даже сходить представиться.
Поднялось суматошное смятение, его не могли понять, отказ от шанса на «хорошее место» ошеломил богохульством. Он повторял, что такую работу ему не нужно. Но какую же, какую? Ему хотелось бы писать, сердито буркнул Гордон. «Писать»? Но как же жить, чем зарабатывать? Ответа у него, конечно, не было. Имелась смутная, слишком абсурдная для оглашения, идея как-нибудь существовать стихами. Во всяком случае, не приближаться к пляскам вокруг денег; работать, только уж не на «хорошеньких местечках». Никто, естественно, этих мечтаний не уразумел. Мать плакала, даже Джулия возражала, огорченно и укоризненно тормошились дядюшки, тетушки (их тогда еще оставалось с полдюжины). А через три дня страшное несчастье. Посреди ужина мать сильно закашлялась, упала, прижав руки к груди, ничком, изо рта у нее хлынула кровь.
Гордон перепугался. Бессильную, на вид почти покойницу, мать отнесли наверх, и сын понесся за доктором. Неделю мать лежала при смерти; хождения к ученикам в любую непогоду и сквозняки сырых гостиных не прошли даром. Сидя дома, Гордон терзался кошмарным чувством вины (он все-таки подозревал, что матери пришлось буквально жизнью оплачивать последний год его учебы). Противиться стало невозможно, упрямец согласился просить место у производителей кровельной краски. Тогда дядя Уолтер поговорил с приятелем, а тот со своим, и Гордона отправили на собеседование к старому джентльмену со щелкавшей вставной челюстью, и тот позволил ему пройти испытательный срок. Гордон приступил, за двадцать пять бобов в неделю. И проработал там шесть лет.
Из зеленого Эктона семья переехала в угрюмый многоквартирный дом среди таких же кирпичных казарм за Пэддингтонским вокзалом. Перевезя свое фортепиано, миссис Комсток, едва чуть-чуть окрепла, снова стала давать уроки. Жалованье сына слегка подросло, так что втроем они потихоньку «справлялись», хотя, главным образом, на заработки матери и сестры. Гордона занимали лишь свои проблемы. В конторе он был не из худших, зарплату отрабатывал, однако общей жаждой успеха не пылал. Надо сказать, презрение к работе неким образом облегчало ему жизнь. Он бы не вынес жуткого конторского болота, если б не верил, что вырвется. Рано или поздно, так или этак рванет на волю. В конце концов, его «писательство». Когда-нибудь наверно получится жить собственным «пером». Ведь творчество свободно, ведь поэта не душит власть вонючих денег? От типчиков вокруг, особенно от стариканов, его корежило. Вот оно, поклонение Бизнес-богу! Корпеть, «гореть на работе», грезить о повышении, продать душу за домик с фикусом! Стать «достойным маленьким человеком», мелким подлипалой при галстуке и шляпе – в шесть пятнадцать домой, к ужину пирог с повидлом, полчасика симфонической музыки у радиоприемника и перед сном капельку законных плотских утех, если женушка «в настроении», – судьба! Нет, не для человека эта участь. Прочь отсюда! прочь от денежной помойки! – воодушевлял он себя перед боем, лелея в душе тайный единоличный заговор. Народ в конторе не догадывался о соседстве такого радикала. Никогда даже не обнаружилось, что он поэт (собственно, это было трудновато, поскольку за шесть лет в печати появилось менее двадцати его стишков). С виду обычный клерк – солдатик безликой массы, которую качает у поручней метро, утром в Сити и вечером обратно.
Ему исполнилось двадцать четыре, когда умерла мать. Семейство рушилось. Из старших оставались тетя Энджела, тетя Шарлотта, дядя Уолтер и еще один дядюшка, вскоре скончавшийся. Гордон и Джулия разъехались по разным адресам: он в меблированные комнаты на Даунти-стрит (улицы Блумсбери как бы уже давали ощущение причастности к литературе), она в район «Графского двора», поближе к службе. Джулии теперь было тридцать, а выглядела она много старше. Здоровье ее пока не подводило, но она исхудала, в волосах появилась седина. Трудилась она все так же по двенадцать часов в сутки, недельное жалование за шесть лет повысилось на десять шиллингов; управительница чайного кафе, чрезвычайно благовоспитанная дама, вела себя скорее как друг, то есть выжимала все соки из «душеньки» и «дорогуши». Через три месяца после похорон матери Гордон внезапно уволился со службы. Так как причин ухода он, по счастью, не назвал, в фирме решили, что нашлось нечто получше, и выдали вполне приличные рекомендации. Но он насчет другого места не помышлял, ему хотелось сжечь мосты, а вот тогда, о! На свободу, глотнуть воздуха – воздуха, чистого от копоти вонючих денег. Не то чтобы он сидел, дожидался смерти матери, однако смог расхрабриться лишь сейчас.
Конечно, остатки родни взволновались пуще прежнего. Составилось даже мнение о не совсем здравом рассудке Гордона. Множество раз он пытался объяснить, почему больше не отдаст себя в рабство «хорошему месту», и слышал только причитания «как же ты будешь жить? на что ты будешь жить?». На что? Он не желал всерьез об этом думать. Но, хотя сохранялись смутные мечты существовать на гонорары, хотя он уже был дружен с редактором «Антихриста» и Равелстон помимо публикации его стихов устраивал ему иногда газетные статьи, несмотря на чуть забрезживший в глухом тумане шанс литераторства, все-таки побудило бросить работу не желание «писать». Главным было отринуть мир денег. Впереди рисовалось нечто вроде бытия отшельника, живущего подобно птицам небесным. Забыв, что птичкам не надо оплачивать квартиру, виделась каморка голодного поэта, но как-то так, не слишком голодающего.
Следующие полгода стали крахом. Провалом, ужаснувшим Гордона, почти сломившим его дух. Довелось узнать, каково месяцами жить на хлебе с маргарином, пытаться «писать» с мыслями только о жратве, заложить гардероб, дрожа проползать мимо двери суровой хозяйки, которой уже четыре срока не платил. К тому же, за эти полгода не удалось сочинить практически ничего. Первый результат, понял он, – нищета тебя растаптывает. Явилось чрезвычайно новое открытие того, что безденежье не спасает от денег, а как раз полностью им подчиняет, что без презренного, обожаемого средним классом «достатка» ты просто раб. Настал день, когда его после банального скандала турнули с квартиры. Трое суток он жил на улице. Было хреново. Затем, по совету парня, тоже ночевавшего на набережной, Гордон потопал в порт, чтобы возить оттуда к рынку тачки наваленной вихляющими грудами живой рыбы. С каждой тачки два пенса в руку и адская боль в дрожащих мускулах. При этом толпа безработных, так что сначала еще надо дождаться очереди; десяток пробегов от четырех до девяти утра считался большой удачей. Через пару дней силы иссякли. Что теперь? Он сдался. Оставалось лишь вернуться, занять у родни денег и снова искать место.