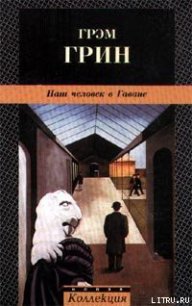Сила и слава - Грин Грэм (серия книг TXT) 📗
— Его показывают на картах. У тебя есть карты?
— Нет.
Он вздохнул.
— Тогда ничего не выйдет, — и тихо засмеялся. Она почувствовала запах пива в его дыхании. — Тогда я буду молиться за тебя.
Она сказала:
— По-моему, вы совсем не боитесь.
— Глоток алкоголя, — сказал он, — делает чудеса с трусом. А если бы еще выпить бренди, да я… я бы бросил вызов самому дьяволу. — Он споткнулся в дверях.
— Прощайте, — сказала она. — Надеюсь, вам удастся бежать. — Из темноты донесся легкий вздох. Она тихо проговорила: — Если они вас убьют, я не прощу им этого — никогда. — Ни минуты не задумываясь, она была готова взять на себя любую ответственность, даже месть. В этом была ее жизнь.
На просеке стояли пять-шесть плетеных глинобитных хижин — две совсем развалились. Несколько свиней, копались в земле, а какая-то старуха носила из хижины в хижину горящий уголек и разжигала маленькие костры посреди пола, чтобы выгнать дымом москитов. В двух хижинах жили женщины, в третьей — свиньи, в последней, неразвалившейся, где хранилась кукуруза, — старик, и мальчик, и полчища крыс. Старик стоял посреди просеки, глядя, как старуха ходит с разжигой; уголек мелькал в темноте, точно совершался неизменный еженощный обряд. Седые волосы, седая щетинистая борода, руки, темные и хрупкие, как прошлогодние листья, — он был воплощением безмерной долговечности. Ничто уже не сможет изменить этого старика, живущего на краешке существования. Он стар уже долгие годы.
Незнакомец вышел на просеку. На ногах у него были истрепанные городские башмаки, черные, узконосые; от них, кроме союзок, почти ничего не осталось, так что ходил он, собственно, босой. Башмаки имели чисто символическое значение, как опутанные паутиной хоругви в церквах. Он был в рубашке и в рваных черных брюках, в руках нес портфельчик — точно пригородный житель, который ездит на службу по сезонному билету. Он тоже почти достиг долговечности, хотя и не расстался с рубцами, наложенными на него временем, — сношенные башмаки говорили об ином прошлом, морщинистое лицо — о надеждах и страхе перед будущим. Старуха с углем остановилась между двумя хижинами и уставилась на незнакомца. Он вышел на просеку, потупив глаза, сгорбившись, словно его выставили напоказ. Старик двинулся ему навстречу, взял его руку и поцеловал ее.
— Вы дадите мне гамак на ночь?
— Отец! Гамаки — это в городе! Здесь спят на чем придется.
— Ладно. Мне бы только где-нибудь лечь. А немножко… спиртного не найдется?
— Кофе, отец. Больше у нас ничего нет.
— А поесть?
— Еды у нас никакой.
— Ну, не надо.
Из хижины вышел мальчик и уставился на него. Все уставились — как на бое быков. Бык обессилен, и зрители ждут, что будет дальше. Они не были жестокосердны; они смотрели на редкостное зрелище: кому-то приходится еще хуже, чем им самим. Он проковылял к хижине. Внутри, выше колен, было темно; огонь на полу не горел, только что-то медленно тлело. Половину всего помещения загромождала сваленная в кучу кукуруза; в ее сухих листьях шуршали крысы. Земляная лежанка, на ней соломенная циновка, столом служили два ящика. Незнакомец лег, и старик затворил за ним дверь.
— Тут не схватят?
— Мальчик посторожит. Он знает.
— Вы ждали меня?
— Нет, отец. Уж пять лет как мы не видели священника… Но когда-нибудь это должно было случиться.
Священник заснул тревожным сном, а старик присел на корточки и стал раздувать огонь. Кто-то постучал в дверь, и священник рывком поднялся с места.
— Ничего, ничего, — сказал старик. — Это вам принесли кофе, отец. — Он поднес ему жестяную кружку с серым кукурузным кофе, от которого шел пар. Но священник так устал, что ему было не до кофе. Он, не двигаясь, лежал на боку. Из-за кукурузных початков на него смотрела крыса.
— Вчера здесь были солдаты, — сказал старик. Он подул на огонь; хижину заволокло дымом. Священник закашлялся, и крыса, точно тень от руки, быстро юркнула в кукурузу.
— Отец! Мальчик не крещеный. Последний священник, что сюда приходил, спросил два песо. У меня было только одно песо. А сейчас всего пятьдесят сентаво.
— Завтра, — устало проговорил священник.
— А вы отслужите мессу, отец?
— Да, да.
— А исповедь, отец, вы нас исповедуете?
— Да, только дайте мне сначала поспать. — Он лег на спину и закрыл глаза от дыма.
— Денег у нас нет, отец, заплатить нечем. Тот священник, падре Хосе…
— Вместо денег дайте мне во что переодеться, — нетерпеливо сказал он.
— Но у нас есть только то, что на себе.
— Возьмите мое в обмен.
Старик недоверчиво замурлыкал про себя, искоса поглядывая на то, что было освещено костром, — на рваное черное тряпье.
— Что ж, отец, надо, так надо, — сказал он. И стал тихонько дуть на костер. Глаза священника снова закрылись.
— Пять лет прошло, во стольком надо покаяться.
Священник быстро поднялся на лежанке.
— Что это? — спросил он.
— Вам чудится, отец. Если придут солдаты, мальчик нас предупредит. Я говорил, что…
— Дайте мне поспать хотя бы пять минут. — Он снова лег; где-то, наверно в одной из женских хижин, голос запел: «Пошла гулять я в поле и розочку нашла».
Старик негромко сказал:
— Жалко, если солдаты придут и мы не успеем… Такое бремя на бедных душах, отец… — Священник взметнулся на лежанке, сел, прислонившись спиной к стене, и сказал с яростью:
— Хорошо. Начинай. Я приму твою исповедь. — Крысы возились в кукурузе. — Говори, — сказал он. — Не трать времени зря. Скорее. Когда ты в последний раз… — Старик опустился на колени у костра, а на другом конце просеки женщина пела: «Пошла гулять я в поле, а розочки уж нет».
— Пять лет назад. — Он помолчал и дунул на костер. — Всего не вспомнишь, отец.
— Ты грешил против целомудрия?
Священник сидел, прислонившись к стене, подобрав под себя ноги, а крысы, привыкнув к их голосам, снова завозились среди кукурузных початков. Старик с трудом подбирал свои грехи, дуя на огонь.
— Покайся как следует, — сказал священник, — и прочитай… прочитай… Четки у тебя есть? Тогда читай «Радостные тайны». — Глаза у него закрылись, губы и язык не довели до конца отпущения грехов… Он снова встрепенулся, проснувшись.
— Можно, я приведу женщин? — говорил старик. — Прошло пять лет…
— А-а, пусть идут. Пусть все идут! — злобно крикнул священник. — Я ваш слуга. — Он прикрыл глаза рукой и заплакал.
Старик отворил дверь; снаружи под огромным сводом слабо освещенного звездами неба было не так темно. Он подошел к женским хижинам, постучался и сказал:
— Идите. Надо исповедаться. Надо уважить падре. — Женщины заныли в ответ, ссылаясь на усталость… можно ведь и утром… — Вы хотите обидеть его? — сказал старик. — Как по-вашему, зачем он сюда пришел? Такой праведный человек. Он сидит сейчас у меня в хижине и оплакивает наши грехи. — Старик выпроводил женщин на улицу; одна за другой они засеменили по просеке к его хижине, а он пошел по тропинке к берегу сменить мальчика, который следил, не переходят ли солдаты реку вброд.
4. СТОРОННИЕ СВИДЕТЕЛИ
Мистер Тенч уже не помнил, когда он в последний раз писал письмо. Он сидел за верстаком и посасывал кончик стального пера, подчиняясь снова вернувшейся к нему потребности отправить хоть какую-нибудь весть по единственному сохранившемуся у него адресу — в Саутенд. Жив ли там еще кто-нибудь? Он нерешительно обмакнул перо, будто произнес наконец первое слово, завязывая разговор в гостях, где толком никого не знал. Сначала надписал конверт: «Миссис Марсдайк, Авеню, дом 3, Вестклиф. Для передачи миссис Тенч». Это был адрес ее матери — властной, всюду сующей свой нос женщины, которая уговорила его повесить свою вывеску в Саутенде. «Прошу переслать», — приписал мистер Тенч. Если старуха догадается, от кого оно, то ни за что не перешлет, но, может быть, за эти годы она уже забыла его почерк.
Он пососал лиловое от чернил перо. А что дальше? Писать было бы легче, если б его письмо имело какую-то цель, а не только смутное желание сообщить хоть кому-нибудь, что он еще жив. Может быть, письмо окажется некстати — вдруг жена снова вышла замуж? Но тогда она не постесняется разорвать его. Крупным, четким ученическим почерком он вывел: «Дорогая Сильвия» — и прислушался к шипенью тигля рядом на верстаке. В нем готовился золотой сплав. В этом городишке нет лавок, где можно купить нужный ему материал в готовом виде. И вообще в таких лавках не принимают в работу четырнадцатикаратовое золото для зубоврачебных изделий, а более высокая проба ему не по карману.