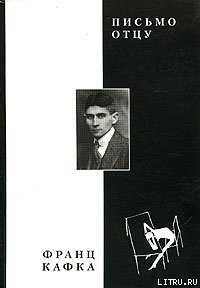Хмель - Черкасов Алексей Тимофеевич (читать книги регистрация .txt) 📗
– Корень тот же, да сучья на дереве разные. Если бы того Боровикова встретить! Не пожалел бы припачкать шашки. И за Дарью Елизаровну, и за все. А с этим не стоит связываться. Дурак.
– Черт с ним, пусть едет. Зря дал полтину.
– Полтину поберег для другого раза.
– Я вот о чем подумал, Григорий. Гляди, какие скалы. Век стоят. Мальчонкой плавал по Енисею – скалы стояли на этом же месте. И вот стукнуло пятьдесят три, а скалы тут же. – И оглянулся, опираясь на поручни: догадался ли Григорий?
– Понимаю: человек – не скала, не камень. Должен двигаться. Иначе мхом покроется. Скалы-то мшистые.
– Ха! Остер. В точку попал.
– Иначе нельзя. Если воротник мундира давит шею, мундир меняют на более подходящий по туловищу, по шее.
– Па-нятно! – И Елизар Елизарович приподнял плечи так, что кости хрустнули. Он еще в силе! За два года войны сколотил на торговле скотом более трех миллионов чистогана! Владелец трех паровых мельниц, пайщик Енисейского акционерного общества пароходства, пайщик приисков Ухоздвигова – недавний, прошлогодний, но все-таки вошел в дело. Не пора ли ему растолкнуться с Белой Еланью?.. И все-таки в душе было муторно, не было той радости, какой хотелось бы… Всему причиною супруга, Александра Панкратьевна! Как он, Елизар Елизарович, ни молил бога, чтоб родила сына, так нет же, «девять лет ходила яловой переходницей, после рождения первой дочери – горбатой Клавдеюшки, а потом вдруг вспучило бабу, и она, господи прости, разродилась двойнею – девчонками, и сама чуть не сдохла» (хоть бы сдохла – руки бы развязала).
Подросли незадачливые дочери – одна другой хуже. Дунька не ужилась за управляющим прииска; Дарыошка – умнущая, начитанная, но так же, как и Дунька, успела опаскудиться в девичестве и теперь отмахивается от единственного жениха Григория Потылицына.
До каких же пор потакать?
«Дарью надо скрутить, пока хвост трубой не вздула да в учителки не пристроилась».
Медлить никак нельзя. Елизар Елизарович купил участок под застройку в Красноярске. Домину поставит в два этажа, как у Востротина и у родича Михайлы Михайловича Юскова. Ну, а там исподволь перехватить ему горло и оттяпать у него два пая в акционерном обществе пароходства, а там и прииск в Южной тайге. Все можно сделать, только выбиться в фарватер большого течения.
«Теперь же отошлю Григория в Красноярск. Пусть начинает дело, приглядывается, принюхивается, а по весне и сам махну туда же. Пора пришла».
Глаз узрил, нацелился, и надо бить без промаха! Надо! Или укатают саврасого миллионщика, или саврасый уездит гнедых, соловых.
«Если бы мне другие руки!..»
Другие руки – Григорий Андреевич Потылицын…
Хитер фронтовой есаул! Из чина в чин как по маслу катится. Другие до седой бороды топчутся в сотниках, а этот напролом лезет, себе на уме, хоть постоянно играет в молчанку. Но хватка волчья, оскал – тигриный. С таким можно начать дело.
– М-да-да, – мычит Елизар Елизарович, потягивая французский коньяк подвалов Михайлы Михайловича Юскова.
Ужинают в салоне. Двое на весь салон. Пусть господа на ус мотают, что значит пайщик пароходства!
Но что уткнул глаза в хрустальную рюмку Гришка-есаул? И на палубе молчит, и теперь. Любопытно, что у него на уме?
Двое суток в пути – с глазу на глаз, скушнота! Сам Елизар упорно выжидал: не подскажет ли что-нибудь будущий зять? Если бы он, Елизар Елизарович, был один, да тут бы Енисей задымился от веселья. Тысячу бы не пожалел, а пяток красавиц пропустил бы через руки. На золотой крючок любая рыбка клюнет: и красной породы, и сорожнячок, разная там образованная нищета, учительницы или офицерские женушки, тоскующие в одиночестве.
– М-да, война! Как там под Верденом?.. Григорий неопределенно усмехнулся:
– Если под Верденом французы не устоят, немцы зимовать будут в Париже.
– Так сразу и в Париж?
– Если хребет армии переломить, чего не дойти?
– Да ведь и наши австриякам всыпали. И в Галицию вышли, и в Буковину. Четыреста тысяч пленных цапнули. Видел в Красноярске австрияков? Казармы строят. Говорят, к рождеству пленными забьют всю Россию.
– Там будет видно.
– Надо бы протереть кишки капитану: на пароходе хватит места на сотню «селедок».
– Енисей обмелел.
– Посудина плоскодонная – пройдет. Ты натри холку капитану.
Григорий опять усмехнулся и пожал плечом: он еще не пайщик акционерного общества.
Левая рука Григория, изувеченная мадьярским палашом, висит на перевязи. Просто так, ради формы: рука давно зажила.
– Смотри, какие гусыни плавают, – кивнул Елизар Елизарович в сторону палубы. – Сейчас бы их на закуску, а? Самое время, чтоб во сне живот не вспучило. А?
– Не охотник на гусынь.
– Зря. Если хорошую гусыню подвалить на ночь, к утру сила удвоится.
Помолчали. Елизар Елизарович вспомнил богатый дом Юсковых в Красноярске. Завидный домина!
– Думаю, Михайла Юсков году не протянет. Укатает его женушка! Видел, как она хвостом метет по лестницам?
– Н-да-а. Не но Михаиле Михайловичу гусыня! Елизар Елизарович махнул рукой и, раздувая ноздри ястребиного носа, спросил:
– Знаешь, кто он, Михайла? И не ожидая ответа:
– Сука! Помолчав, дополнил:
– Старая сука. Сам себя навеличивает либералом.
– Либералом?
– Вот-вот. А что это за фигура, «либерал»?
– Добрый, значит. В драку не лезет и драку не начинает. Со стороны смотрит и судит: как нехорошо друг другу морду бить, не по-христиански, говорит.
– Он самый, Михайла Михайлович… сын ведьмы Ефимии. На Евангелие сидит, а в карман тебе глядит, как бы запустить руку. Так-то. Либерал, значит? Надо запомнить. Он любит, чтобы его все называли так. Имей в виду, когда будешь сталкиваться с ним. Мирком да ладком. Но ухо держи востро: в карман залезет или вывернет наизнанку. Это же сынок того самого Михайлы Данилыча, который мово прадеда Семена Данилыча околпачил, ободрал как липку и умелся из общины с блудницей Ефимией. С этой самой ведьмой! Если бы тот Михайла не перемахнул в православие да не цапнул бы золотишко всех Юсковых, этот Михайла Михайлович тряс бы холщовыми шароварами. Да-с, батенька ты мой. Теперь он миллионщик да еще во второй раз женился. На ком женился-то?.. На самой княгине Львовой. Эх, сука она, так и вихляет хвостом!
– А минусинские Юсковы?
– Племянники Михайлы Михайловича. Внуки того Михайлы Данилыча, ворюги. И тоже в либералы лезут. Типографию открыли, газетку печатают, враньем рот замазывают, а почитают себя святошами.
– Сколько же лет бабке Ефимии?
– Сто двенадцать стукнуло. Вреднющая старушонка. И когда она сдохнет? На лето – в Белую Елань; на зиму – от одного дома к другому. Из Минусинска в Красноярск, а то в Петербург. В Петроград то исть. И всех ругает, тычет носом. Не старуха, а капустная кочерыжка. Я бы ее давно спровадил в преисподнюю. Она же и в бога не верит, ведьма!
– Они все не верят, думаю, – буркнул Григорий. – Погрязли в блуде и разврате, суета сует, как тина болотная, и нет ей дна. Во Спасителя веруют, а сейфам поклоны отдают, во храме божьем на иконы глаза вскидывают, а руками греховными под юбки чужих жен лезут.
– Это ты правильно подметил, да… – Ухватившись за столетию, покачиваясь, проговорил: – Да и есть ли он, бог? Живешь – ноздри раздуваешь; испустил дух – тлен, и больше ничего. Потому и рвут друг другу глотки: абы прожить на этом свете, а на тот что-то никто не поспешает. А? Жми-дави, и вся статья жизни. Пойдем, охолонемся на палубе. В башке тяжеловато и в брюхе тошно от этих стерлядок.
На палубе коротали время одинокие дамы, кутаясь в теплые шали, в пальто, и важно прохаживался пузатый толстяк Вандерлипп. «Маслобойщик из Америки», – узнал его Елизар Елизарович.
Двухтрубный пароход, тяжело отдуваясь, как старик, и назывался «Дедушкой», медленно двигался навстречу течению возле аспидно-черных утесов по правому борту. Ни звезд, ни неба; чугунная плита. Давящая, гнетущая.
Задрав бороду, Елизар Елизарович поглядел в небо: