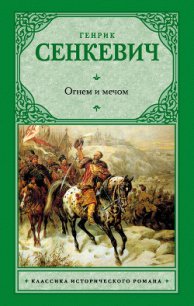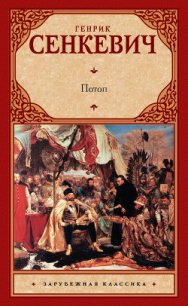Огнем и мечом. Часть 1 - Сенкевич Генрик (читать книги полностью без сокращений .TXT) 📗
— Тебе этого знать незачем! — сказал он с теплотою в голосе. — Приходи же завтра!
Пан Скшетуский встал и с тяжелым сердцем вышел.
Вечером пришел на его квартиру старый Зацвилиховский, а с ним — маленький пан Володы„вский, пан Лонгинус Подбипятка и пан Заглоба. Все собрались за столом, и тотчас же появился Редзян, неся кубки и бочонок.
— Во имя отца и сына! — закричал пан Заглоба. — Что я вижу? Отрок вашей милости воскреснул!
Редзян приблизился и колени ему обнял.
— Не воскреснул я, но и не умер вашей милости благодаря.
А пан Скшетуский добавил:
— И к Богуну потом на службу переметнулся.
— Значит, завелась у него в пекле протекция, — сказал пан Заглоба, а затем, обратившись к Редзяну, сказал: — Вряд ли ты на службе той много удовольствия получил, на же тебе талер во утешение.
— Покорнейше благодарю вашу милость, — молвил Редзян.
— Он! — воскликнул пан Скшетуский. — Да это же плут каких поискать! Он же у казаков добычу скупал, а что у него имеется, того бы мы вдвоем с вашей милостью купить не смогли, даже если бы ты, сударь, все свои поместья в Турцех продал.
— Вон оно что! — сказал пан Заглоба. — Владей же себе моим талером и расти, милое деревце, ибо если не для господней муки, то хотя бы для виселицы сгодишься. С виду он малый порядочный. — Здесь пан Заглоба ухватил Редзяново ухо и, легонько дергая за него, продолжал: — Люблю плутов, а потому предсказываю что выйдет из тебя человек, если скотом не станешь. А как тебя там твой господин, Богун, поминает, а?
Редзян усмехнулся, ибо ему польстили и слова, и ласка, а затем сказал:
— О ваша милость, а уж как вашу милость он вспомнит, так просто искры зубами высекает.
— Пошел к дьяволу! — внезапно разгневавшись, воскликнул Заглоба. — Будешь еще тут всякий вздор молоть!
Редзян вышел, а за столом завязалась беседа о завтрашнем путешествии и о неописуемом счастии, каковое ожидает пана Яна. Мед вскорости исправил настроение пану Заглобе, и тот сразу же стал прохаживаться насчет пана Скшетуского и про крестины намекать, а то и о пылких чувствах пана Енджея Потоцкого к княжне рассказывать. Пан Лонгинус вздыхал. Все потягивали мед и пребывали в приятном настроении. Но вот наконец разговор пошел о военной ситуации и о князе. Скшетуский, около двух недель отсутствовавший в лагере, спрашивал:
— Скажите же мне, что стало с нашим князем? Ведь это прямо другой человек. Я просто понять ничего не могу. Господь послал ему викторию за викторией, а что его региментарством обошли, велика беда! Сейчас ведь все войско к нему валит, так что князь без чьей-то там милости гетманом станет и Хмельницкого разгромит… А он, по всему видать, чем-то угрызается и угрызается.
— Уж не подагра ли у него? — предположил пан Заглоба. — У меня, например, как дернет иногда в большом пальце, так я дня на три в меланхолию впадаю.
— А я вам, братушки мои, вот что скажу, — заметил, покачивая головою, пан Подбипятка. — Я этого, конечно, от отца Муховецкого сам не слыхал, но слышал, будто он кому-то, мол, сказывал, отчего князь места себе не находит… Я, конечно, ничего не говорю — князь господин милостивый, добрый и воитель великий… Чего ж мне судить его… Но якобы вот отец Муховецкий… Да разве ж я знаю… Или вот тоже…
— Ну, гляньте, ваши милости, на литву-ботву этого! — закричал пан Заглоба. — Ну как же не потешаться над ним, если он двух слов по-человечески сказать не может! Ну что ты, сударь, сообщить-то хотел? Кружишь, кружишь, как заяц возле колдобины, а путного от тебя не добьешься.
— Что же ты, ваша милость, слышал-то? — спросил пан Ян.
— Ат! Ежели вот… Значит, будто… Говорят, что князь крови много пролил. Великий он вождь, но меры, мол, когда мстит, не знает… И сейчас, вроде оно, все красным видит: днем — все красно, ночью — красно, словно бы его красный облак окутамши…
— Не болтай, сударь, глупостей! — гневно рявкнул старый Зацвилиховский. — Бабьи это сплетни! Не было гольтепе лучшего господина в мирные времена! А что к мятежникам снисхождения не знает, так что из того? Это доблесть, не грех. Какие это муки, какие казни чрезмерны тем, кто отечество в крови утопил, кто татарам собственный народ в рабство отдает, бога позабыв, ругаясь над величеством, отчизной, благоучреждением? Где ты еще, сударь, сыщешь чудовищ таких? Где еще знали подобные зверства, какие учиняли они над женами и детьми малыми? Где еще виданы таковые преступления чудовищные? И за это кол и виселица чрезмерны?! Тьфу! У тебя, сударь, рука железная, да сердце девичье. Видал я, как ты кряхтел, когда Полуяна припекали, да еще сетовал, что зря, мол, его на месте не добил. Но князь — не баба, он знает, как миловать и как казнить. Зачем же ты, сударь, околесицу тут несешь?
— Так я ж, отей мой, говорил же, что доподлинно не знаю, — оправдывался пан Лонгинус.
Однако старик долго еще сопел и, рукою белые свои волосы приглаживая, ворчал:
— Красно! Гм! Красно!.. Это что-то новое! В голове у того, кто такое выдумал, зелено, не красно!
Воцарилось молчание, и только с улицы доносился галдеж развлекавшейся шляхты.
Первым подал голос маленький Володы„вский:
— А вы как, отче, полагаете? Что могло приключиться господину нашему?
— Гм! — сказал старик. — Я у него не исповедник, так что не знаю. Над чем-то он размышляет, из-за чего-то мучит себя. Тут какая-то борьба душевная, не иначе. А чем душа боле, тем муки доле…
И старый рыцарь не ошибся, ибо в минуту эту на своей квартире князь, вождь и победитель, лежал во прахе перед распятием и вел одно из тяжелейших сражений своей жизни.
Часовые на збаражских стенах оповестили полночь, а Иеремия все еще продолжал разговаривать с богом и с собственной великою душою. Разум, совесть, любовь к отечеству, гордость, ощущение своего могущества и великих предназначений боролись в груди его и вели меж собой упорную схватку, от которой разрывалась грудь, раскалывалась голова и боль раздирала все тело. Ведь вот оно — вопреки примасу, канцлеру, сенату, региментариям, вопреки, наконец, правительству шли к победоносцу сему квартовое войско, шляхта, разные поместные хоругви — словом, вся Речь Посполитая предавалась в его руки, собиралась под его крыла, судьбы свои вручала его гению и устами лучших сыновей своих взывала: «Спаси, ибо один ты спасти можешь!» Еще месяц, еще два, и под Збаражем соберется сто тысяч воинов, готовых на смертельный бой с чудищем гражданской войны. И картины грядущего, осиянные неким ослепительным светом славы и могущества, стали возникать перед взором князя. Те, кто его обойти и унизить хотел, содрогнутся, а он увлечет эти железные рыцарские когорты и поведет их в степи украинские к таким пирам, к таким триумфам, каких еще не знает история. И ощущает в себе князь силу соответственную, за плечами его, словно у святого Михаила-архангела, распахиваются крыла, и превращается он тотчас в некоего исполина, которого ни замок, ни весь Збараж, ни целая Русь постигнуть не в силах. Боже мой! Он изведет Хмельницкого! Он бунт растопчет! Он покой отечеству вернет! Зрит он широкие луга, тьмы воинства, слышит грохотанье пушек… Битва! Битва! Победа неслыханная, невиданная! Трупов не счесть, знамен, покрывших степь обагренную, не счесть, а он попирает стопою тело Хмельницкого, и фанфары трубят победу, а голос их разносится от моря и до моря… Князь вскакивает с пола и руки ко Христу простирает, а вокруг головы его сияет некое красное свечение. «Христе! Христе! — вопиет он. — Ты знаешь! Ты видишь, что я смогу это сделать! Повели же, скажи, прикажи!»
Но Христос голову на грудь свесил и молчит, такой горемычный, словно его вот-вот распяли. «Во славу же твою, — вопиет князь. — Non mihi, non mihi, sed nomini Tuo da gloria! [132] Во славу веры и церкви, во славу всего христианства! О Христе! Христе!» И новый образ является пред очи героя. Не победою над Хмельницким завершится стезя эта. Князь, поглотив мятеж, плотью его еще более утучнится, силами его учудовищнится, легионы казаков к легионам шляхты присоединит и пойдет дальше: на Крым ударит, мерзостного дракона в собственном его логове уничтожит, и там утвердит крест, где до сих пор колокола никогда-никогда верующих к молитве не созывали.
132
Не мне, не мне, но имени твоему слава! (лат.)