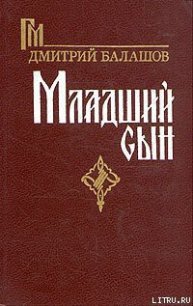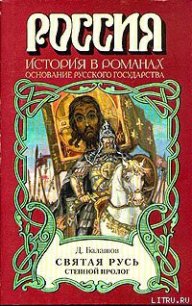Марфа-посадница - Балашов Дмитрий Михайлович (бесплатные версии книг .TXT) 📗
Хитроглазый, похожий на купца настоятель сам подошел к боярину, оставшемуся случайно у плиты Немирова отца, похороненного рядом с его прабабкой.
— Не родственник, случаем, Ивану Офонасовичу? Бывал, бывал у нас боярин! Прегордо величахуся, а не ведах ни часа, ни судьбы своей! Како Бог сильных наказует и смиряет до зела! А и допрежь того блаженный Михаил Ивана Офонасовича Немира остерегал и говорил ему, — еще когда приняли князя литовского, Михайлу Олельковича, — «то у вас не князь, а грязь!»
Пото и вышло!
— Врешь ты все! — грубо возразил Савелков. — Блаженный твой за двадцать лет до того помер!
Настоятель все так же улыбался, нимало не смущаясь. Возразил:
— Не вемы смерти причтенных к Богу! Их дух незримо руководит делами и мыслями нашими! А были и иные князи литовские в Новгороде, и при тех такоже было! Тут вот убогий народ собрался. Молить Господа и Михаила блаженного за великого князя, да правит нами страшно и грозно, яко же и достоит ему в государстве своем! Како помыслишь о том, боярин?
Настоятель ушел. Иван, насупясь, воротился к своему коню. Верно, что гнездо московское! О чем и думали допрежь?! Садясь на коня, Савелков приметил тряпошного мужичонку, вжавшегося в ограду:
— Новгородец ле?
— А как же! — радостно ощерясь, подтвердил тот.
— И тоже за великого князя Московского молитьце пришел?
Тот покивал головой, все так же радостно глядя на боярина.
— И страшно, и грозно… — процедил Савелков сквозь зубы.
— Грозен, грозен! — живо откликнулся тот.
Иван прихмурился. Мужичонко шмыгал носом, долгим латаным рукавом отираясь, подобострастно и блудливо озирал роскошные сбрую и платье. С презрением глянув на него с коня, Савелков спросил:
— Власти захотелось?
— Да уж, что уж?! — Жидкие светлые бегающие глаза под белесыми бровями на красненьком улыбчивом лице поднялись к Савелкову. — Как вашей милости, а тут всякому кланяйсе, ужотко одна власть для всех! Вона, Онаньинича утишил! Вы-то не больно-то до нас добры!
Огрев плетью с кованым, оправленным в серебро наконечником дорогого атласного коня, — жеребец прянул с храпом, кидая грязь, брызгами разлетевшуюся с монастырской мостовой, понес вперед, — Савелков вылетел за ворота.
«Прожили свое, истеряли… Эх!»
И снова плеть змеисто ожгла бешено скачущего коня. Подпрыгивая в лад на седле, Иван все не мог унять злой обиды и повторял, сжав зубы, издевательскую приговорку юродивого: «Не князь, а грязь. Не князь, а грязь! Грязь! Грязь!»
Комья летели из-под копыт, звучно шлепая по плахам монастырского тына, по стволам дерев. Иван горько усмехнулся:
«В самом деле — грязь! Король этот… Верили, спорили, грамоту составляли! А кабы и помог, не хуже ли стало бы еще? Разваливается все!
Друг, Гришка Тучин, уже отшатнулся. Селезневы… Он сам, с чего потянуло сюда? Не быть Новгороду! Не быть…»
Эх! Воля! Серые тучи, ветер! Все отдай за хмельной простор, за ровный сумасшедший скок коня! Неужели в кабалу к Ивану?!
После проводов великого князя заболел Офонас Остафьевич Груз, надежда и воля Софийской стороны. То ли простыл, а скорее — душой надломился.
Он лежал, когда Борецкая, воротившаяся из деревни, приехала к нему. В скудном свете лампад не разобрать было лица. Внесли свечи, и Марфа ужаснулась — до чего изменился Офонас за три прошедших месяца! Дышал он хрипло. Марфа посоветовала настой из трав, который, случалось, принимала сама. Офонас повел головой:
— Все пробовал… Парился… Ничего не помогает.
— Ничего?
— Ничего. Пережили мы с тобой, Марфа! Умереть бы в срок, как Григорий Кирилыч да Федор Яколич… Помнишь Григория Кирилыча-то? Хоть не видали бы этого сраму!
— Встанешь еще! — сказала она, сдерживая дрожь голоса. — Нужно собирать людей!
— И не встану, — ответил он хрипло. Помолчал, облизнул губы, добавил тише:
— Я уж ничего не могу…
Что-то жалкое показалось в лице у Офонаса, впервые за все те годы, что знала она его. Марфа обвела глазами горницу: иконы, лампадки во всех углах. Тоже новое — не был особенно богомолен Офонас!
Она подала ему напиться. Поддержала, пока пил, тяжелую бессильную голову. Офонас выпил, откинулся на взголовье. Из-под ворота рубахи, на сине-багровой толстой груди видна была белая шерсть. Большие бугристые руки в коричневых пятнах бессильно лежали на одеяле.
— Ты, Марфа, в страшный суд веришь? — помолчав, вопросил Офонас. Вот, конец света грядет?.. А я верю. Раньше-то не верил, не чуял ее…
Он вновь поглядел жалобно, и у Борецкой защемило сердце. Вспомнила, как еще перед Рождеством был у нее на обеде, как шутил, как со вкусом ел рыбу, долго прожевывая беззубыми твердыми челюстями, как он, не страшась, первый подписывал грамоты, как одним присутствием своим, тяжелой медлительной основательностью, даже глухотой вселял уверенность в других… А теперь — в срок умереть.
— Нет, нельзя! — сказала она ему громко на ухо, чтобы расслышал.
— Что ты, Марфа?
— Нельзя, говорю, умирать!
— Вота, нельзя! А можно.
Он трудно улыбнулся, и на миг показался прежним, всегда уверенным в себе Офонасом Грузом.
Тимофей, большой, костистый, боком протиснулся в горницу, стараясь, как видно, казаться меньше перед умирающим старшим братом. Так же, боком, поклонился Борецкой.
— Вот, Тимоша, — прохрипел Офонас (никогда так не называл брата на людях, как помнила), — вместе мы были. Ты теперь Ивановну не покидай… и прибавил сухим шепотом:
— Пропадает Новгород Великий!
Приближалась осень. Борецкая все так же строго вела хозяйство, принимала обозы. В часы отдыха нянчила внука Василия, Василька, рассказывала мальчику, какой у него был отец, мешая черты Федора и Дмитрия: большой, сильный, смелый…
Ездили к ней немногие. Построжевший после прошедших событий Савелков да еще пять-шесть друзей старых. Но однажды Олена застала мать за разговором с Окинфом Толстым и услышала еще из-за дверей прежний властный голос матери и сердитый голос Окинфа.
— …То и Казимир, а поклонами воли не добудешь!
Мать смолкла, едва Олена отворила двери, и дочь так и не поняла, о чем они говорили, — не то о Казимере, брате Якова Короба, не то вновь о литовском короле?
Мать была все та же. Смерть Федора не согнула ее.
Марфа Борецкая, по осени, стала почасту бывать у купцов. Ярославово управление во Пскове и их вразумило паче иных речей. Князь Ярослав Оболенский, ставленник Ивана Третьего, все больше свирепствовал во Пскове, облагая город поборами и отбивая смердов от городского вечевого управления. Второго сентября, пьяный, учинил драку на торгу. Один из его слуг потянул капусту с чьего-то воза. Возчик не дал, завязалась драка.
Посадским ярославовы холуи давно уже стали поперек глотки, сбежался народ.
Ярослав появился сам, в панцире, и начал стрелять, убил человека.
Безоружные вспятились, Ярослав же, зайдясь, угрожал поджечь город. Но тут на него пошли с оружием, осадив князя в Кроме, Детинце псковском. Всю ночь гремел набат, и вооруженные горожане стерегли князя. Посадникам с трудом удалось утишить город. Об этом уже через день судачили в Новгороде, предрекая и себе такую же участь от москвичей, ежели поддадутся великому князю. Вновь город заколебался, вспоминая о своих древних вечевых правах.
В это же время в Новгород тайно прибыл посол от короля Казимира, побывавший у многих бояр, и у Борецкой в том числе.
— Почто король не всел на конь, когда мы были в силе? — гневно отмолвила Марфа. — А теперь ему в городе и веры нет! Пущай других уговорит, тогда и я подумаю.
Она больше надеялась нынче на псковичей: может, опомнятце да к ним пристанут? Зато Иван Кузьмин, зять Овинов, ухватился за королевкого посла обеими руками. Он да иные из пруссов и неревлян имели с послом долгие беседы. Разговаривал посол и с Юрием Репеховым, наместником владыки Феофила. Но все это было лишь чадом на пепелище, бледным воспоминанием о былых погубленных надеждах.