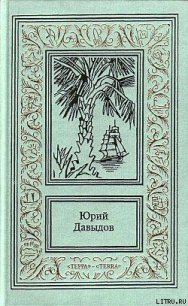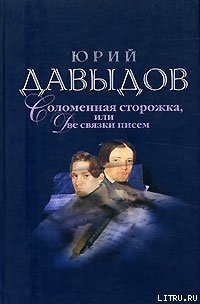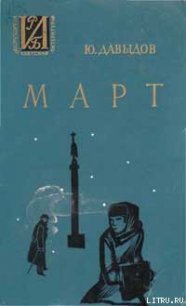Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим... - Давыдов Юрий Владимирович (книги онлайн .TXT) 📗
Головнин в своем «Путешествии» почему-то не называет его имени. А кажется, должен был бы. Добелл, родом ирландец, немало, как и Василий Михайлович, постранствовал; в те самые годы, когда Головнин занимал страницы «Сына Отечества», Добелл там же печатал очерки о Сибири.
Не упоминая Добелла, капитан «Камчатки», подобно консулу, взглянул на архипелаг с русской колокольни. Василий Михайлович как бы вернулся к давним своим размышлениям. «Филиппинские острова, – писал он, – из коих главный Лусон, на котором находится Манила, во многих отношениях заслуживают внимания европейцев, а более россиян, по соседству их с нашими восточными владениями, где во всем том крайняя бедность, чем Филиппинские острова изобилуют. Положение сих островов в отношении к Сибири, безопасные гавани, здоровый климат, плодородие и богатство земли во всех произведениях, для пищи и торговли служащих, многолюдство и, наконец, сношения их с китайцами – все сие заставляет обратить на них внимание».
Пользуясь нынешними терминами, сказать должно, что флота капитан второго ранга сделал на Филиппинах классовый анализ: он рассмотрел положение разных слоев островного населения.
На вершине общественной пирамиды восседали, разумеется, служители культа. Распрекрасное это дело, быть служителем культа. Надо лишь попугивать дурачков: без нас, служителей, все пойдет прахом. При Карле III, во второй половине XVIII века, испанское черное духовенство несколько утратило свое ведущее (вернее, никуда не ведущее) положение. Но быстро оправилось. В годы плаваний Головнина служители культа верховодили с прежней неукоснительностью.
Итак, писал Василий Михайлович, первый класс «составляет духовенство, которое здесь, как и во всех испанских колониях, весьма многочисленно и имеет главою архиепископа, живущего в Маниле, и несколько епископов, живущих в провинциях. В Маниле считается 5 монастырей мужских и 3 женских».
Головнину не удалось заглянуть за монастырские стены. Два его ученика – Врангель и Матюшкин – заглянули. Правда, спустя несколько лет, когда транспорт «Кроткий» тоже стоял в Манильской бухте.
Оказывается, филиппинские служители культа, как, впрочем, и всякие иные, отнюдь не предавались аскетизму. Неопубликованный дневник Врангеля воссоздает сценку в духе Боккаччо: «Сквозь густоту леса мелькнул вдруг огонек, лодки пристали к берегу, и добрые монахи помогли нам выйти на сушу и привели в огромный монастырь, где вместо скромных келий вошли мы, через освещенную галерею, в залу. Отец Николай, настоятель сего монастыря, монах здесь весьма уважаемый, встретил нас и, при звуках приятной музыки, проводил к чайному столу, где приветствовал нас губернатор и несколько почетных чиновников, приехавших со своими семьями берегом.
Сколь ни удивило нас доселе виденное в обители отшельников – хор музыкантов, собрание дам, но мы поражены были еще неожиданнейшим зрелищем: музыка громче зашумела, заиграла контрданс, и зала сия превратилась в танцевальную Дамы и молодые кавалеры обнялись и заплясали, вероятно, из усердия к святому Иерониму, коего день намеревались завтра праздновать.
Действительно, в 4 часа другого утра отслужили сему святому молебен в церкви, отделенной от танцевальной залы одною тонкою завесою. Несмотря, однакож, на сию непристойность, провели мы вечер весьма приятно… Прекрасные дамы не уставали от качучу и фанданго, а мы не уставали восхищаться приятными их телодвижениями.
На ночь разместили нас по незанятым кельям, окна коих были в монастырский сад. Рано утром, по звону колокольчика, собрались мы в церковь; после молитвы подали шоколаду, а потом в колясках и на верховых лошадях поехали мы по окрестностям: осмотрели сахарный и индиговый заводы, проехали обширные плантации сарачинского пшена 74, сахарного тростнику, индигового растения, леса плодоносных дерев, встречая на каждом шагу следы трудолюбия почтенного отца Николая, который все сие устроил, приучил индейцев к работам и обратил их к христианству» 75.
Ах, милейший барон, он остался себе верен. Его несколько смутила фривольность монастырского уклада, но зато искренне восхитили «следы трудолюбия» настоятеля и как тот с августинской братией «приучил» туземцев гнуть хребет на плантациях и угодиях.
Правду молвить, и наблюдения Головнина над участью «пятого класса», последнего и самого многочисленного класса филиппинского феодального общества, были поверхностны, беглы, неубедительны. Да ведь Василий-то Михайлович не отлучался из Манилы, не раскатывал в колясках и не галопировал по дорогам острова.
Но столичный, манильский «свет» Головнина отнюдь не умилил. Следующим классом после духовенства называет он «гражданских и военных чиновников». Великолепные трутни убивают время «в праздности, курении сигарок и карточной игре, за которую садятся даже с самого утра». Засим следуют купцы, плантаторы, винокуры и сахарозаводчики. Эти тоже не делом обременены, а золотым мундирным шитьем: тугой кошелек обеспечивает им полковничьи и майорские чины.
Розничную торговлю держали в Маниле китайцы. «Они, – усмехается Головнин, – не стыдились с нас просить за вещь в пять и шесть раз дороже настоящей цены». Но Василий Михайлович тут же смягчает упрек: китайцы задавлены налогами. И включаясь в согласный хор самых разных наблюдателей, подчеркивает трудолюбие, искусность китайских ремесленников.
Головнин опять и опять возвращается все к той же теме: об истреблении колонизаторами коренных народов. Мысль эта преследует мореплавателя, не дает ему покоя. Ужели, думал Головнин, даже в безмерном просторе Великого океана нет земли, не попранной европейским насильником?
На Сандвичевы (Гавайские) острова ходил он за свежими припасами. Но была и другая цель – увидеть, как «несколько тысяч взрослых и даже сединами украшенных детей вступают на степень человека совершенных лет».
Гавайями правил Тамеамеа Первый. Ни один европеец не удостоился от Головнина столь пылких похвал. Капитан снимает фуражку: «Необыкновенный человек». Тамеамеа, полагает Василий Михайлович, «всегда будет считаться просветителем и преобразователем своего народа», «природа одарила его обширным умом и редкою твердостию характера».
И верно, напрашивается сравнение с Петром Великим. Крепость, возведенная по всем правилам фортификации. Войска, обученные на европейский лад. Заведение регулярного флота. Приглашение европейцев на службу, но при этом никакого ущерба самостоятельности. Интерес к технической новизне и т. д. На все это, признается Головнин, не мог он взирать «без удивления и удовольствия».
Вот именно – удовольствия! Ему всегда было радостно убеждаться в том, что «обширный ум и необыкновенные дарования достаются в удел всем смертным, где бы они ни родились».
Его радует не только энергия Тамеамеа, но и сообразительность, практическая сметка: молодец старик, понаторел в коммерции, черта с два проведут за нос американцы или англичане. А ежели он сам их порой объегоривал, то что же за беда? – улыбается Василий Михайлович. И объясняет: «Ведь тут дело идет о политике и дипломатических сношениях, а при заключении и нарушении трактатов где же не кривят душою, когда благо отечества или, лучше сказать, министерский расчет того требует?»
Не просто умного и удачливого монарха усматривает в Тамеамеа наш путешественник, но и выдающегося представителя народа, который имеет «чрезвычайные способности». Однако фигура семидесятидевятилетнего старца, «бодрого, крепкого и деятельного, воздержанного и трезвого», не застит от Головнина этот самый «чрезвычайных способностей» народ.
Пушкин, отдавая должное Петру, отмечал в нем резкие черты самовластного помещика. Головнин, восхваляя Тамеамеа, говорит о крутых поборах: «Деньги король собирает, когда ему захочется»; «Коль скоро королю нужны какие-либо припасы или другие вещи, то объявляется, чтоб со всех округов или некоторых привезли к нему требуемое так точно, как бы господин дома приказывал своим служителям».
74
Сарачинское пшено – рис.
75
Центральный государственный архив Эстонской ССР. Фонд 2057, опись I, дело 312, листы 128—129 (об).