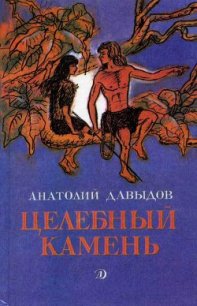Камень и боль - Шульц Карел (книги онлайн бесплатно TXT) 📗
– Кажется, мессер Буонарроти, вы сделали храм Сан-Доменико местом самых важных своих свиданий!
– Я вижу, – с удовлетворением заметил Асдрубале Тоцци, – ты не едешь с ним. Значит, бывший твой правитель не взял тебя в свою свиту…
Тут Микеланджело рукой, привыкшей к резцу и молотку, провел себе по лбу и груди и почувствовал, как в нем растет сила. Беглец уже изведал всю долю беглеца: не только слезы и тоску, но и злобу и непокорство. Он почел бы себя опозоренным, если б его вдруг отпустили. Еще за минуту перед тем он блуждал под стенами, обставшими его со всех сторон, непроницаемо замкнув его судьбу и надвигающуюся гибель. Всюду кругом – сплошная стена, и блуждал он здесь, стремясь скрыться не из города, а от своего несчастья. Он думал о своих сновидениях и о своей работе. В конце того и другого было одно: плаха. Дважды он слышал нынче это слово. Первый раз его произнесла прекрасная женщина – самая прекрасная из всех, каких он встречал, – и произнесла, говоря о любви. В конце этого сновиденья речь шла о смерти. А второй раз произнес это слово Пьер Медичи, его правитель, – произнес, говоря о его возвращении и работе. В замирающих отголосках этого сновиденья речь тоже шла о смерти. Куда скрыться? И он бродил вдоль стен не затем, чтоб тайно бежать из города, в который тайно явился, а затем, что здесь уединенно, и далеко позади остался торговый шум улиц, гомон рынка и площадей. Затем блуждает он по лугу, вытоптанному марширующими отрядами скьопетти, затем ходит здесь без цели, что хочет быть один, путь его не имеет направления, не ведет ни к какому выходу. Шаги его бесцельны. И вдруг у высоких черных кованых ворот стоят эти двое, вооруженные военачальники, и следят за его шагами со смехом. Теперь он идет между ними – в торговом шуме улиц, гомоне рынков и площадей. Уже не слабость и бессилие, уже не растерянность, а непокорство. Сила. Ему кажется, что он не мог изобрести ничего лучшего, как конвой этих двух, шаги его уже имеют цель, а путь – направление. Коль ты вступил на этот путь, нет нужды думать о будущем.
И неодолимая, но мучительно нетерпеливая сила… Такая же, что когда-то заставила его на глазах у Лоренцо выбить зубы улыбающемуся "Фавну". Такая же, как в тот солнечный день, когда он остановился перед рисунком Торриджано да Торриджани. Или когда он блуждал по ночным садам, изнеможенный до ломоты в костях, и волоча при этом свою решимость, как глыбу. Или когда он изваял статую язычника Геркулеса и поставил ее у входа в дом, куда должны были входить дядя Франческо и братья, толкуя о боге, одержимости и бирючах. Или когда он стряхнул с конского повода руку Савонаролы. Или когда, отвергнув предложение Венеции, решил пробиться хоть сквозь французские войска, но во что бы то ни стало снова попасть во Флоренцию. Или как в ту первую ночь в Болонье, когда он ходил взад и вперед по тюремной камере, в то время как его случайные друзья спали, а он был готов перервать глотку любому, кто войдет. Драться, яростно, исступленно драться, превратиться в один смертоносный удар… Угасшее лицо его было серое, черты напряженные, твердые, словно резанные из камня… Так подошли они к дому Асдрубале Тоцци.
Вошли в комнату, где были тишина, занавесь, картины и лютня. Тоцци крикнул, чтоб подали вина, и отвернулся. Дребезжащий голос уродины за дверью повторил его приказ. Тоцци до сих пор не убил уродину и не выгнал ее из дому, потому что Оливеротто твердил, что это преждевременно, а уродина, чуя недоброе, присмирела, больше не издевалась так явно и даже не приносила сама вино. Так что подал слуга. Микеланджело не хотел пить первый, и кардиналов кондотьер с презрительной улыбкой, небрежно нащупав чашу, сделал глубокий глоток, а Тоцци, расставив ноги, промолвил:
– Ты здесь не ради наказания, а чтоб нам помочь! Микеланджело поглядел на него с изумлением.
Кондотьерова рука поигрывала одной из величайших редкостей, какие были у Тоцци в доме, – половиной скорлупы кокосового ореха на подставке. Такие диковинки привозят португальские мореходы, и другой подобной не было во всей Болонье. Кондотьерова рука с любопытством ощупывала скорлупу, нежно перебирая ее волокна. Рука Тоцци тяжело опустилась на плечо Микеланджело.
– Я знаю, что жена моя каждый день встречалась с тобой в храме. Она не скрывала этого. Но я хочу знать, в чем дело. Вы с ней, конечно, о многом говорили, и ты теперь мог бы мне рассказать. Понимаешь, художник, у меня есть разные способы заставить тебя говорить. Но я пока не хочу.
Микеланджело быстро выпрямился. Этот человек открывает перед ним свою рану. Этот человек сражен. Тоцци – с Сицилии. Он знать не хочет модных правил об обязательной снисходительности мужей, установленных особыми любовными судилищами, состоящими из очаровательных дам и галантных римских прелатов. Тоцци – с Сицилии, и в нем нет благородства, у него дед еще рыбачил в Таормине. Его гложет ревность, доводя до бешенства, пожирает огонь, обращающий свои острия внутрь, доставая самые тайные изгибы сердца. Микеланджело глядит на его измученное лицо, на глаза – глаза хищника.
"Я должна была стать причиной твоей смерти… – слышит он голос. – И эта смерть должна была стать твоим позором. На плахе должен был погибнуть флорентийский лазутчик и совратитель жен. Но ты стал мне мил своим прямодушием и детской простотой, Микеланджело… мне было хорошо с тобой… беги, спасай свою жизнь. Я не предам тебя, Микеланджело…"
Оливеротто осторожно поставил кокосовую скорлупу и легкими шагами подошел ближе.
– Это Лоренцо Коста, живописец. Я знаю, – сказал он звонким мальчишеским голосом. – Не так уж трудно было обнаружить. Мы не требуем от вас, мессер Буонарроти, выдать то, что вы обещали хранить в тайне. Нам надо, чтоб вы помогли нам иначе. Вы, художники, рассказываете друг другу многое о своих любовницах. Монне Кьяре и этому живописцу понадобились ваши услуги, поэтому монна Кьяра ежедневно навещала вас, и вы должны сказать теперь нам все, что вам известно о них. Было бы нетрудно пойти к Косте на дом и застать их вместе, но мессер Тоцци – не болонский купец, разоблачающий при всем честном народе неверность жены и срам, павший на его голову. У нас совершенно другой план, и вы должны нам помочь, так как для нас нет вопроса, любят ли они друг друга, а вопрос в том, где в их любви наиболее уязвимое место. Месть – великое искусство, не допускающее топорной работы. Быть может, как раз на самый маленький крючок мы и навесим всю тяжесть кары. Поэтому рассказывайте! Не вздумайте утверждать, будто монна Кьяра ходила в Сан-Доменико, только чтоб на вас полюбоваться, не смешите нас. Рассказывайте! Этим вы не только загладите свою вину как соучастника, которая тоже заслуживает позорного наказания, – но думаю, что мессер Тоцци не закроет для вас свой кошелек, хорошо вам заплатит.
Микеланджело отпрянул – из страха, как бы к нему не прикоснулась рука говорящего. Непреодолимая гневная сила вырвалась наружу. Теребя сжатыми пальцами одежду на груди и цепь, подаренную княгиней Альфонсиной, с лицом, искаженным исступленной гримасой бешенства, он вне себя закричал:
– Это я – слышите? – не Коста, а я – любовник монны Кьяры, – слышите вы? – я. Мы с ней встречались не только в храме, я добился ее любви и ночи с помощью венецианских чар, она любит меня, а не Косту из Феррары, меня, она сама мне сказала, и я соблазнил ее, выспрашивал ее и предавал Болонью и вас, она меня любила, – я – лазутчик Флоренции, меня нашли в тюрьме, я добивался от нее планов города и укреплений и доступа к твоему ложу, чтоб убить тебя ночью, а потом бежать с ней в Лукку, Сиену, Венецию, Флоренцию, Рим, куда глаза глядят, я любил ее, а не Коста, я знал о ней больше, я видел больше, чем ее красоту, я видел ее под маской, всегда под маской, Лоренцо Коста никогда не любил ее… Это она меня… "Я никогда не предам тебя…" – вот что она сказала мне, это ее слова, она сказала мне это, была ночь, это была ее тень, которую я потом увидел, у меня никогда не было другой возлюбленной, я хотел получить от нее ключи Болоньи…