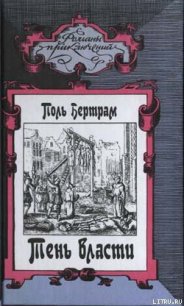Пятая труба; Тень власти - Бертрам Поль (читать книги без сокращений .TXT, .FB2) 📗
Пока она говорила это, её широкое платье, оттого ли, что она сделала резкое движение, или от собственной тяжести, наполовину спустилось с плеч. Она подхватила было его рукой, но потом вдруг сразу опустила, и тяжёлый бархат медленно сполз на пол. Одежда из мягкого шёлка, которая оказалась под этим платьем, скорее очерчивала, чем скрывала её формы.
Кровь бросилась мне в голову. На колеблющихся складках её одежды причудливо играли блики света от лампы с цветным абажуром, свешивавшейся с потолка. Как-то странно светились её обнажённые шея и руки.
Я чувствовал, что не в силах отказаться от того, что мне предлагали. Я понимал, что отказаться от неё теперь было бы самым жестоким оскорблением женской гордости, а это никогда не забывается. К тому же я любил её. Бог свидетель, что я больше думал о ней, чем о себе. Я думал… о разных глупостях, которые не стоит здесь записывать. Я понимаю теперь, что тогда я должен был бы быть твёрд и относительно неё, и относительно себя самого. Но тогда сила воли изменила мне. Женщина, которую я любил, была передо мной, и теплота, исходившая от неё, наполнила все мои чувства. Я не мог рассуждать в ту минуту. Я не был готов к этому, я был безоружен против этого.
— Донна Изабелла, — хрипло сказал я, — я не хотел дотрагиваться до вас до тех пор, пока вы не пришли бы ко мне сами, добровольно и с радостью. Но вы искушаете меня так, что ни один мужчина не вынесет этого.
Есть одна арабская сказка, которую мне рассказывала мать, когда я был ещё мальчишкой. Во время рамазана, в те часы, когда люди должны были поститься, вырос и распустился плод, дурманивший разум людей. Его должен был сорвать тот, кто согрешил и ещё не раскаялся, не искупил своего греха. Превыше всех земных сладостей казался этот плод, и этот человек чувствовал в себе неземную гордость, считал себя королём королей. Но когда плод растаял у него во рту, он сделался горьким, и он почувствовал в себе великий стыд: ниже нижайшего показался он сам себе. Двенадцать месяцев должен был он носить свой срам в себе, пока на следующий год в этот же час не встретился с новым искушением и не преодолел его. Но как долог показался ему этот год!
Горе жёсткому человеку, который любит! И ещё большее горе человеку, который, будучи твёрд, изменяет себе — на час, на одно мгновение!
И, лёжа ночью, я вспомнил проклятие доминиканца: «Горький час да будет для вас горчайшим, сладкий час — горьким всей горечью проклятия!»
15 декабря.
Вот уже две недели, как мы женаты. Нет никаких признаков, что моя жена помнит о первой ночи, которую она провела в моих объятиях. Она вежлива и суха со мной, как с чужим. Она даже улыбается, но когда она это делает, я чувствую потом холод. Она очень послушна и справляется о моих желаниях даже в мелочах. О, как бы мне хотелось схватить её в свои объятия, поцеловать и сказать ей: «Изабелла, дорогая моя, у меня нет другого желания, как смотреть на твоё лицо! Но я не смею сделать этого».
Пришло известие о резне в Зутвене. Это ещё более затрудняет для меня приобретение благосклонности моей жены. Я знал только, что город был взят приступом 16 ноября. Но только недавно прибыли оттуда жители, рассказавшие о резне. Дело было хуже, чем в Мехлине, а главное — это была бесполезная жестокость. Правда, раньше в Святой Квентине произошло нечто ещё худшее. К тому же здесь мы имеем дело не просто с войной, а с войной междоусобной и религиозной, где страсти раскаляются втрое сильнее. А всё-таки, как я уже сказал, в этой резне не было никакой надобности. Герцог стареет, и то, что произошло в Зутвене, есть позор для Испании. Я так говорю. Но, может быть, только оттого, что сказать нетрудно.
На мой рассказ донна Изабелла не отозвалась ни одним словом.
Две недели утончённой пытки!
18 декабря.
Сегодня я получил вести об отце Бернардо. За последнее время я и не думал о нём, да он и не заслуживал этого. Его не отправили сейчас же в монастырь, как я ожидал, а передали в руки инквизиции. Мои сведения идут, конечно, из частного источника, но я могу вполне положиться на них.
Это известие довольно странное. Я хорошо знаком со взглядами Мадрида на государство и церковь, и это всего менее согласуется с ними. Мне неизвестно, кто составлял список лиц, который я получил. А что если это сделал отец Бернардо, чтобы выдвинуть против меня самое сильное обвинение: что я не обращаю внимания на богатых еретиков. У него было здесь достаточно времени для того, чтобы собрать о них нужные сведения. Правда, его занимали другие дела, но он мог не упускать из виду и этого. Сначала удовольствия, потом обязанности, как говорит поговорка.
Что если он рискнул и рассказал обо всём? Он, конечно, погибнет, но погибну и я. В таком случае моя гибель неизбежна, и это только вопрос времени и случая. Меня нельзя тронуть безнаказанно — моя семья имеет большой вес при дворе, а Голландия охвачена войной. Я спасу свою жену во что бы то ни стало, но не себя самого. Будь я один, я не стал бы дожидаться и послал бы им исповедь отца Бернардо сам. Но такой поступок немедленно привёл бы к кризису. Ради жены я должен выжидать.
22 декабря.
День идёт за днём, но донна Изабелла по-прежнему сохраняет ледяную сдержанность.
Сегодня вечером опять повторилась та же сцена. Мы кончили ужин и молча сидели друг против друга у камина. Она сидела неподвижно, сложив руки на коленях. Её глаза смотрели куда-то в темноту за мной, а на губах застыла жёсткая улыбка.
Время проходит и, может быть, мне выпадут на долю дни, когда мне удастся поговорить с ней. Я знал людей, которые женились силой и с помощью одной грубости заставляли своих жён преклонять перед ними колена. Но я не принадлежу к их числу. Я не могу ни уважать, ни любить женщину, завоёванную подобным образом.
Очевидно, и она страдала: её щёки побледнели, поблекли. Я принял то, что она предлагала, и я должен был сказать первое слово. Хотя мужчина и не должен унижаться перед кем бы то ни было, но перед женой это допустимо. Не следует мне дожидаться того момента, когда я буду уже свергнут и стану предметом её сожалений.
Сегодня канун Рождества. И если б было даже слабостью заговорить с ней, я не буду в том раскаиваться.
— Изабелла, — сказал я. — Неужели так всегда будет между нами? Неужели ты не можешь простить меня? Что я должен сделать, чтобы заслужить твоё прощение?
Она продолжала молчать.
— Припомни, — добавил я, — что и я могу предъявлять претензии.
— Если я оскорбила вас каким-нибудь словом, то вы оскорбили меня бесконечно сильнее. Слова можно взять обратно, но то, что вы сделали, поправить нельзя.
— Того, кто любит, можно и простить, — горько отвечал я. — Изабелла, — вскрикнул я в отчаянии, — наша первая ночь не оставила никаких следов в твоей памяти?
— Напротив, оставила очень большой след: позор отдаваться не любя и радость, что, отдав себя, я спасла сотню людей от пытки и костра. А это уже много. И я этого никогда не забуду.
Я чувствовал, что меняюсь в лице: её слова были уж слишком жестоки. Разве я об этом её спрашивал?
— Хорошо, — сказал я, поднимаясь. — Будьте покойны. Вам не придётся больше испытывать этого позора. Вы моя жена, но я буду вести себя так, как будто бы вы ею не были.
— Как вам угодно. Я согласна исполнить всякое ваше желание. Ваше дело приказывать, а моё повиноваться.
Теперь я понял её. Она хитростью заставила меня сделать то, что сама предлагала, и поймала меня на этом только для того, чтобы потом презирать и унижать в моих собственных глазах. Это было мщение, к которому, быть может, прибег бы и я сам, если бы был женщиной.
25 декабря.
Вчера был канун Рождества. «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение» — так гласит Евангелие от Луки. Канун Рождества — великий день в этой стране. Все дарят друг другу в этот день подарки, и не один муж не может оставить без подарка свою жену.