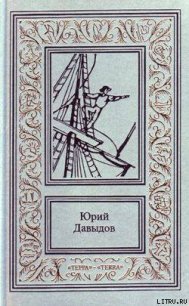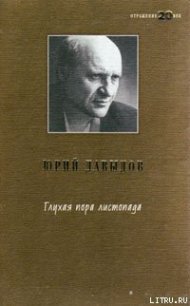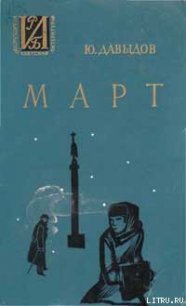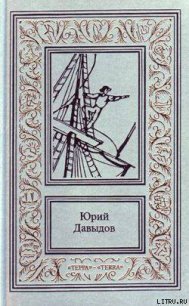Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (книги онлайн полные txt) 📗
Мир утрачивал этику религиозную. А где этика нерелигиозная? Между тем «ход вещей» все круче сворачивал к террору. Пропаганда в народе увяла, «романтики» уходили в катакомбы конспирации. Герман невесело трунил: «Держатся кучками, точно тараканы». Он отрицал пальбу по одиночным мишеням. «Романтики» тщились забрить ему лоб. Герман уклонялся, не завязывая диспутов: «вожди» поглощены делом, а «публика» поглощена обаянием «вождей». К тому же нельзя было не признать, что практика «романтиков» действительно устрашала неприятеля.
В уклончивости Германа многие усматривали нежелание состоять нумерованным членом такой-то или такой-то организации. Всеволод не соглашался, но, правду сказать, угадывал в натуре старшего брата русскую чуждость внешним формам – жмут под мышками, застят глаза, как шоры, эдакая, прости господи, прелестно-дворянская разбросанность.
И вдруг: Герман в самом центре, в самой гуще организации. Стремительно покидает Париж, мечет судьбина по российским городам и весям… И ведь когда, в какое время? Ветераны погибли на эшафоте: Желябов, Перовская… Сгинули в казематах Михайлов и Фигнер… Последний из старой гвардии – эмигрант Тихомиров – не смел показаться в России… «Народная воля» лежала в руинах; шнырял Дегаев, предатель, и реял, как нетопырь, обер-шпион Судейкин… Герман не примыкал к «романтикам», пока те были в силе. И протянул руку, когда их дробил молот репрессий. Не весь ли в этом незабвенный Герман?
Была, однако, точка – прикосновение к ней отзывалось болью; боль эта держалась как бы в стороне от большой, непреходящей. Именно эту точку, случалось, сильно трогали некоторые из друзей по минувшим временам и делам: Герман, конечно, вне всяких подозрений, но, падая, как подрубленная сосна, он сокрушил подлесок.
Это было верно: подобно скале, низринутой подземным толчком, Герман увлек за собой десятки, сотни камней – его арест был прологом многих арестов. Это было так, но это было не совсем так, и Всеволод Александрович мог бы поклясться… Что толку в клятвах? Опустив глаза, мучайся и невозможностью защитить Германа, и тем, что такой человек нуждается в защите.
Многие роковые обстоятельства предопределили катастрофу, но Всеволоду Александровичу были они неизвестны. Их знали и понимали те, кого судили вместе с ним, и они снимали с него нравственную ответственность. Но голоса тех людей звучали в четырех стенах военного суда, а потом заглохли в каторжных норах.
Знали об этих обстоятельствах и по ту сторону баррикады: Отдельного корпуса жандармов полковник Оноприенко, сухощавенький, черноглазенький, с нервным, желчным лицом; корректный и педантичный жандармский ротмистр Лютов; генерал Цемиров, военный юрист с повадками квартального; и, наконец, лощеные, светски-невозмутимые гвардейцы в штаб-офицерских эполетах, заседавшие за столом военно-окружного суда.
Но и они молчали. Да и о чем говорить? Все сказано государем! «Надеюсь, что этот раз он больше не уйдет», – написал Александр Третий на докладе о поимке Лопатина.
Огромные фолианты – жандармские и судебные – грузно, как корабли, обреченные забвению, потонули в сумеречных, беззвучных пучинах.
Но и эти обломки подвластны глубинным течениям, и то, что некогда лежало под спудом в Петербурге, медлительно и валко переместилось в Москву.
Я не люблю архивы в новейших зданиях из стекла и бетона. И не люблю документы на микропленке, галантерейной, как целлулоидные воротнички. Я люблю архивы в старинных зданиях с «архитектурными излишествами» и люблю первозданность документа, даже если он в мертвенно-синей обложке департамента полиции.
В Москве совпало все.
Дворец, возведенный Петром для Франца Лефорта (дым стоял коромыслом в часы громокипящих ассамблей), дворец, доставшийся потом светлейшему Меншикову, но сохранивший доселе имя Лефортовского: въезд огромный, хоть верхами по четыре в ряд, и тяжелый, гаубицей не прошибешь; аркады, словно аккорды, взятые органистом, коринфские пилястры, элементы нарышкинского стиля – короче, выдержанность и законченность классических принципов. И потому уместна тут строгая, как фортификация, табличка: «Центральный Государственный военно-исторический архив».
Лет пятнадцать–семнадцать назад в читальном зале не мыкались в поисках рабочего места. Рачительная хозяйка привечала по-домашнему, я и теперь признателен милой Надежде Павловне. И признателен архивистам, еще не успевшим широко внедрить микрофильмы, хоть и понимаю, что срок носки целлулоидных воротничков дольше, нежели матерчатых.
Итак, я приступил к чтению огромных фолиантов.
Поначалу надо вникнуть в тексты, выполненные разными почерками, и нередко такими, когда даже принципиальный противник телесных наказаний горько жалеет о мягкосердечии учителей чистописания. Впрочем, усидчивость, усидчивость. Ну, вот уже не спотыкаешься, не морщишь лоб, не чертыхаешься. И теперь… Мальчишкой, бывало, едешь зимою в трамвае, сложив ладонь трубочкой, дуешь, дышишь на махристое от инея стекло, пока медленно не расплывется иллюминатор-пятачок, и, прильнув, видишь прохожих, пивной ларек, ломовиков, грузовик… Все это видел тыщу раз пешеходом, ан нет, глядишь, словно бы впервые, радостно-обновленным оком… Архивное не прочитывать надо, надо продышать, отогреть дыханием лед времени и разглядеть, расслышать… Не скажу: «минувшее», не скажу: «былое» – то, что неотступно движется вслед за нами, да мы-то редко оглядываемся, еще реже задумываемся…
Где-то там, за стенами, шуршат календарные листки, а здесь, в покое Лефортовского дворца, простерлись годы девятнадцатого столетия – восемьдесят третий, восемьдесят четвертый… Еще едва слышен, но все ж уже слышен шаг восемьдесят седьмого: «Подвергнуть смертной казни через повешение…» А ты не в силах задержать, остановить приближенье, потому и медлишь в восемьдесят третьем, в восемьдесят четвертом.
Оказывается, британский подданный коммерсант Норрис нанял квартирку в Малой Конюшенной, рядом со Шведской церковью. Ты ведешь глаза к высокому потолку, вспоминая что-то близкое по созвучью: ну как же, это в двух шагах от Финской церкви, от Большой Конюшенной, где имеет жительство бухгалтер Общества взаимного кредита г-н Даниельсон. Но нет, если верить пухлому фолианту, г-н Норрис не посещал г-на Даниельсона. И хорошо, и слава богу, Николай Францевич мог спокойно продолжать занятия политической экономией, спать мог спокойно.
Русобородый коммерсант ни ногой ни на биржу, ни в банк. Скорой походкой, плечами враскачку, будто б и следов не оставляя, исчезает в питерских проходных дворах, коим несть числа. А в квартире у мистера Норриса не гроссбух – брошюра Энгельса о научном социализме, фотография Веры Фигнер, недавно арестованной, и конверт с парижскими письмами, на конверте пометка: «Зина».
Тот, кто г-ну Норрису едва по плечо, человек, то ли язвой измученный, то ли алкоголем изжеванный, – этот штабс-капитан ужасно боится встреч с Норрисом, но и не встречаться тоже боится… Слышен в покое Лефортовского дворца осторожный стук и приглушенное шлепанье, пахнет сырыми листами подпольной газеты, но это ж не Питер, нет, маленький, уютный Дерпт… И вдруг середка декабря трещит, будто рванули кусок коленкора: стреляли из револьвера номер 17 891, стреляли в тринадцатой квартире, в доме с двумя выходами – на Невский и на Гончарную. Туда, на Гончарную, опрометью выбегает, едва не обронив барашковую шапку, выбегает в расстегнутом пальто бывший штабс-капитан… В тот же вечер труп опознан: особый инспектор секретной полиции, главарь и мастер всероссийского политического сыска… Рассеялся пороховой запах, сменился паровозной гарью – мистер Норрис в Москву, мистер Норрис в Ростов, мистер Норрис в Одессу. Велика, однако, география его коммерции. Он снова в Петербурге, надо получить почту, он ни ногой на почтамт, он всегда в редакцию «Новостей», к секретарю редакции Феденьке Грекову, а я-то читал, не здесь, не в Лефортовском дворце, но читал письмецо сильно постаревшего Феденьки Грекова, слезное письмецо, о котором, впрочем, позже. Норрис опять в Петербурге, острым жаревом пахнет в греческой кухмистерской, он наскоро закусывает, а четверть часа спустя на Невском, где клодтовские кони, слышен его яростный вопль. И вот уж под сводами Лефортовского дворца – тяжелый гул жандармских карет на железном ходу…