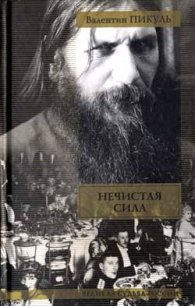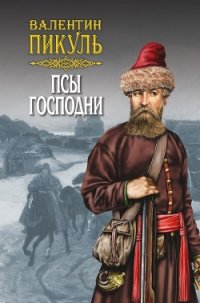Полет и капризы гения (сборник) - Пикуль Валентин (мир бесплатных книг txt) 📗
Два человека, два современника, прошли по земле русской – император и крестьянин. Оба они стремились к величию России, но путями разными. Петр I думал о стране, в которой он, самодержец, главный, а народ пусть трепещет пред ним. Посошков думал о народе, почитая народ главною силой в стране, и пусть сама власть трепещет перед народом. Там, где Петр I действовал дубиной, Посошков хотел видеть закон, обязательный для всех, будь то сенатор или землепашец. Каждый из них по-своему прав: Посошков – по-народному, а царь – по-царски!
24 февраля 1724 года Посошков закончил «Книгу о скудости и богатстве», желая подбросить ее на стол императора, а там – будь что будет. 28 января 1725 года Петр I скончался в ужасных мучениях, крича на весь дворец от нестерпимых болей:
– Зрите и ведайте, сколь слаб человек…
Историки так и не выяснили, успел ли царь прочесть сочинение Посошкова; кажется, нет! На престоле воссела Екатерина I.
А на базаре люди не молчали – они разговаривали:
– Нам от бабы и выеденного яйца не видать.
– Откуда взялась эта царица – бес ее знает…
Когда она склонилась над гробом царя, целуя его, архимандрит Феодосии Яновский, писатель и вития, покрыл императрицу нещадной бранью. Феофан Прокопович (тоже писатель и тоже вития) уцепился за эту брань как за повод для погубления соперника в делах синодальных и послал на Яновского донос… 26 августа 1725 года к Посошкову пришли солдаты и отвезли его в крепость!
Историки еще многого не знают, но о многом догадываются.
В библиотеке Феодосия Яновского нашли экземпляр «Книги о скудости и богатстве», пытками у людей вырывали признания – читали ли они эту книгу? Один из читателей Посошкова был отведен на эшафот, где ему отрубили голову… Советский ученый Б.Б. Кафенгауз, много лет положивший на изучение Посошкова, отыскал в делах царского кабинета бумагу, а в ней сказано: «Купецкой человек Иван Посошков содержится по важному секретному государственному делу». Да он и сам предвидел конец свой: «Не попустят мне на свете ни малого времени жить, но прекратят живот мой!»
Его запытали…
А конец миниатюры мог бы стать и ее началом. Санкт-Петербург, 1840 год – николаевская эпоха… Аукцион в разгаре – шла бойкая распродажа собрания библиофила Лаптева. На столе появилась рукопись в переплете из свиной кожи, и аукционер с трудом прочитал ее название – тяжкое и громоздкое, будто автор свалял его из громадных замшелых валунов:
– «Книга о скудости и богатстве, си есть изъявление от чего приключается напрасная скудость и от чего гобзовитое богатство умножается»… Продается! Кто желает приобрести?
Не успели выкликнуть цену, как некто Большаков, матерый спекулянт-перекупщик, уже протиснулся вперед и алчно тронул переплет из свиной кожи – кусачей, как наждак.
– Беру… Сколь надо – столь и дадим!
Сам-то он в этой книге ни бельмеса не смыслил, но зато ценил ее как старинную реликвию. Привез он книгу в Москву, где с лихвой перепродал профессору истории Погодину, а тот сразу понял, какая уникальная находка попала ему в руки. Ученый провел над «Книгою о скудости и богатстве» всю ночь и над нею же встретил он розовый рассвет. Автор – из тьмы веков – настаивал перед царями на раскрепощении крестьян, и напротив этого места Погодин (сам бывший крепостной) с чувством отметил: «Целую руку твою!» Вот и последняя страница книги, подпись: «Правды всеусердный желатель ИВАН ПОСОШКОВ». Погодин записал в дневнике: «Благодарю судьбу, которая доставила мне случай ввести такого великого человека в святилище русской истории». Но оказалось, что ввести Посошкова в пантеон российской историографии не так-то легко… Министр просвещения граф Уваров заявил Погодину:
– Михайла Петрович, хотя Его Императорскому Величеству и благоугодно было на вашем прошении об издании труда Посошкова начертать слово «согласен», я, со своей стороны, советую вам, голубчик, воздержаться от публикования сей книги…
Погодин чуть не зарыдал – в отчаянии:
– Не губите меня, ваше сиятельство! Я ведь сплю и вижу сочинение Ивана Тихоныча на прилавках книготорговцев российских.
– В любом случае, – продолжал граф Уваров, – вам при издании не следует утверждать, что автор происходил из подлого состояния. Трудно поверить, чтобы мужик, подобно Адаму Смиту, мог бы разбираться в тонкостях экономики. Скорее всего, книгу сочинил кто-либо из вельмож Петра, но, боясь расплаты за дерзкие мысли, он тишайше спрятался за крестьянским псевдонимом.
– Значит, нельзя печатать? – понурился Погодин.
– Советую воздержаться…
Но историческая наука «воздержания» не терпит, и Посошков буквально протаранил стены царской цензуры. Россия в 1842 году узнала, что в дебрях ее былой жизни существовал писатель Иван Тихонович Посошков – страдающий, ликующий, негодующий, правды ищущий, неправду отрицающий…
После окончания романа «Война и мир» Лев Толстой вознамерился писать о Петровской эпохе, желая сделать Посошкова главным своим героем. Лев Толстой был, кажется, немало удивлен, когда узнал, что его главного героя замучил начальник Тайной канцелярии граф П.А. Толстой, который приходился великому романисту родным прапрадедом…
«Императрикс» – слово звериное
Время Анны Иоанновны, будь оно трижды проклято…
Чиновник костромской консистории, Семен Косогоров (волосом сив, на затылке косица, вроде мышиного хвостика, на лбу бородавка – отмета Божия), с утра пораньше строчил перышком. Мутно оплывала свеча в лубяном стакане. За окном светлело. В прихожей, со стороны входной лестницы, копились просители и челобитчики – попы да дьяконы, монахи да псаломщики.
– Эй, – позвал. – Кто нуждит за дверьми? Войди до меня…
Вошел священник уездный. В полушубке, ниже которого ряска по полу волоклась – старенькая. Низко кланялся консисторскому. На стол горшочек с медком ставил. Затем и гуся предъявил. Косогоров липовый медок на палец брал и с пальца задумчиво пробовал – вкусен ли? Гуся презентованного держал за шею рукою властною, огузок ему прощупывая, – жирен ли? И гуся того с горшком под стол себе укладывал, где уже немало даров скопилось.
Спрашивал:
– Кою нужду до власти духовной имеешь? И как зовешься?
На что отвечал ему священник так-то:
– Зовусь я Алексеем, по батюшке Васильевым. Нужды до власти не имею по смиренности характера, от кляуз дабы подалее. Но прошу тебя, господин ласковый, ссуди ты меня бумагой для писания. Совсем плохо в деревне – негде бумажки взять.
– Бумажка, – намекнул Косогоров, – ныне в красных сапожках бегает. А… много ль тебе листиков? И на што бумага?
– По нежности душевной, – признался Алексей Васильевич, – имею обык такой – вирши да песни в народе сбирать. Для того и тужусь по бумажке, чтобы охота моя к тому не ослаблялась. Ибо на память трудно надеяться: с годами всех песен не упомнить…
Косогоров вдруг обрадовался, говоря Васильеву:
– Друг ты мой! Я и сам до песен разных охоч. Много ль их у тебя собрано? Канты какие новые не ведаешь ли?
Священник тут же (по памяти) один кант ему начертал:
– Чьи вирши столь усладительны? – возрадовался Косогоров.
– Того не упомню. С десятых рук переписывал…
И священник, добыв бумажки, отъехал на приход свой – в провинцию. А консисторский чин вирши новые решил в тетрадку перебелить, дабы затем по праздникам распевать их – жене в радость, а детишкам в назидание. Поскреб перо об загривок сивый, через дверь крикнул просителям, что никого более сей день принимать не станет. Начал он первый стих пером выводить и сразу споткнулся на слове «ИМПЕРАТРИКС».