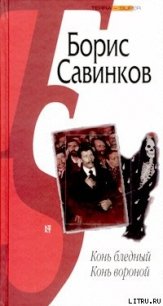Конь вороной - Савинков Борис Викторович (В.Ропшин) (хороший книги онлайн бесплатно txt) 📗
22 июля.
Груша запыхалась, — бегом бежала от самых Столбцов:
— Каратели пришли… С пулеметами… Человек полтораста…
— ЧОН?
— Да… Старика Кузьму, — помнишь, у которого те трое стояли, — сейчас к Иисусу, разложили, стали плетьми пороть. Порют, а он «Отче наш» читает… Начальник ихний как заорет на него: — «Чего молишься, старый хрыч?.. Сознавайся…» Отпороли. Кузьма дотащился домой, на полати залег и сына позвал, Мишутку. «Мишутка, — говорит — это ничего, что выпороли меня, пущай и совсем запорют, а ты винтовку бери, бей их, бесов. Убьют тебя. Серега пойдет». А каратели — шасть по дворам, коров, овец, лошадей, даже собак считают, оружия ищут, все допытываются, кто тех гадов убил. Стон на деревне стоит. Сказывают, всех стариков пороть будут, а молодых так в Сибирь ушлют… Господи, неужто погибнем, как мухи?..
Ее глаза горят сухим блеском. Губы сжаты. Она с тревогой ждет моего ответа… Она знает его заранее.
— Груша, жди меня ночью у Салопихинского ключа.
Она поняла. Она обрадовалась и шепчет:
— Бей их. Бей… Чтобы ни один живым не ушел, чтобы поколеть им всем, окаянным…
23 июля.
Я отобрал пятнадцать самых надежных «бандитов» и разделил их на два отряда. Одним командую я, другим Вреде. Я пройду в Столбцы от Салопихинского ключа. Вреде — с большой дороги. В 2 часа ночи мы выступаем.
Я оставил своих людей во ржи и один, межою, иду в деревню. Ярко, перед рассветом, сверкают звезды. У околицы часовой.
— Кто идет?
— Не видишь, ворона?
Я в шлеме и красноармейской шинели. На рукаве кубики — командный состав.
— Где штаб полка?
— Направо, у церкви, товарищ.
Не деревня, а сонное царство. Спят «каратели», спят и крестьяне, — готовятся к поголовной порке. Мне вспоминается отец Груши: «Да кто порет-то? Ведь свои… Свой брат, фабричный или мужик…» На завалинке, у церковного дома, огонек папиросы. Я вынимаю наган.
— Здесь штаб полка?
— Здесь. А ты кто такой?
— Товарищ.
— Товарищ?.. Документы есть?
Звякнули шпоры, — он встал. Тогда я говорю:
— Руки вверх!
Я увидел, как он схватился за шашку. Но я выстрелил в грудь, в упор. Выстрелив, я вхожу в сени. Скрипнула дубовая дверь, желтым светом ослепило глаза. На кроватях — «товарищи-командиры». Их трое. На столе самогонка. Я опять говорю:
— Руки вверх!
Я стреляю на выбор, слева, по очереди и в лоб. Я целюсь медленно, внимательно, долго. Но уже на улице шум. Это Вреде. Это Егоров. «Ура!.. Ура!.. Ура!..» Я выхожу на крыльцо. По деревне мечутся люди, без винтовок, в одном белье. Во все горло поют петухи.
24 июля.
Вреде арестовал «военкома» и привел его в лагерь. «Военком», молодой человек, в пенсне, из бывших студентов. Он бос: сапоги снял Мокеич. Он вздрагивает и озирается исподлодья. Я спрашиваю:
— Ты член коммунистической партии?
Он опускает глаза — не смеет признаться. Я смотрю на худое, иссини бледное, перекошенное испугом, лицо.
— Я повешу тебя.
Он падает в пыль, на колени. Он на коленях подползает ко мне.
— Товарищ!.. Товарищ полковник!.. Пощадите!.. Ведь я еще молодой…
— Из молодых да ранний… — перебивает его Егоров. — Вставай!.. Нечего зря болтать языком.
— Я молодой… Дайте мне послужить…
— Кому послужить?
— Народу…
— Народу хочешь служить? — говорит Егоров. — Бес. Сукин сын.
«Бандиты» смеются. Они рады: «военком», да еще студент… Свалилось с длинного носа пенсне, заморгали опущенные ресницы, и из глаз покатились слезы:
— Товарищ полковник!.. Товарищ полковник!..
Я вернулся в палатку. И из палатки услышал визг. Так не кричит человек. Так визжит подстреленный заяц.
25 июля.
За лагерем бежит речка, приток Днепра, Взмостя. Держась рукой за лозняк, я спускаюсь к заводи, — к тихой воде. Осока царапает мне лицо, нога скользит по затонувшей коряге. Я плыву по течению. Наперерез плывет уж. Он поднял желтую, с раздвоенным жалом, головку и ныряет в поднятых мною волнах. Я смотрю на него. Я смотрю на высокое солнце, на серебряный, струящийся луч, на зеленый, поросший ольхою, берег, и не верю, не могу поверить себе, неужели завтра то же, что и сегодня? Неужели завтра снова «клюквенный сок»?
26 июля.
У меня две-три книжки, чтобы не одичать в дремучем лесу. Евангелие, рассказы Пушкина, стихи Баратынского. Сегодня я раскрыл наудачу:
Не о нас ли сказаны эти слова? Не «пух» ли мы? Не «пух» ли повешенный «военком», сожженный Синицын, запоротый до полусмерти Кузьма? Не «пух» ли Федя, Егоров, Мокеич, мы все, зеленые, красные, белые, — навоз и семя России?..
27 июля.
Приехал из Москвы Федя. На нем новый, синего цвета, «педзяк» и щеголеватые бриджи в клетку. В этом наряде он похож на берейтора из провинциального цирка. Он доволен собой. Он то и дело вынимает зеркальце из кармана и приглаживает пробор: «кандибобером ходит»… Я спрашиваю его:
— Разменял?
— Разменял, господин полковник.
— Сколько?
— Две тысячи пятьсот фунтов.
Он рассказывает про привольную московскую жизнь. «Бандиты» окружили его. Они слушают с упоением. На вершинах дерев золото вечернего солнца. Внизу сумерки. Хороводами жужжат комары.
— Люди, как люди, и живут по-людски. В рулетку играют, ликеры заграничные пьют, девиц на Роль-Ройсах возят. Одним словом. Кузнецкий мост. Выйдешь, часика этак, в четыре, — дым коромыслом: рысаки, содкомы, нэпманы, комиссары… Ни дать, ни взять, как до войны, при царе. Вот она, рабочая власть… Коммуной-то и не пахнет. В гору холуй пошел. Живут!.. А мы, сиволапые, рыжики в лесу собираем… Эх!..
Егоров морщит седые брови:
— Помалкивал бы в тряпичку, Федя. Соблазн.
— А что?.. В Москву захотелось?
— Язва, отстань… Бесом стал. Бесов тешишь.
Федя смеется. Смеется и беспалый Мокеич, и выпоротый недавно Каплюга, и Титов, и Сенька, и Хведощеня, и вся лесная зеленая братия. Всем весело. Всем завидно. Завидно, что где-то, за тридевять земель, в далекой Москве, «в гору холуй пошел» и «люди живут по-людски».
«По-людски»: «девиц на Роль-Ройсах возят»… Я спрашиваю себя: семя мы или только навоз?