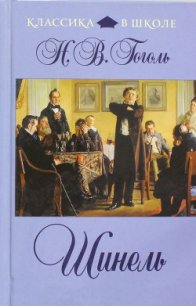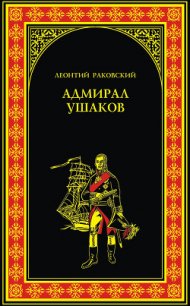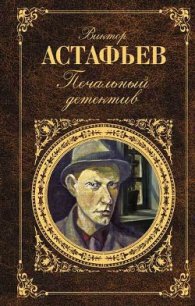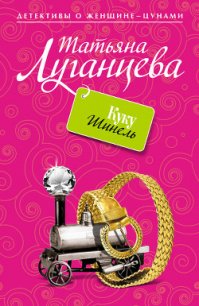Изумленный капитан - Раковский Леонтий Иосифович (книга регистрации TXT) 📗
Софья прошла уже большую половину морской слободы, когда встретилась с профосом.
Навстречу Софье, окруженный босоногими адмиралтейскими ребятишками, шел посредине грязной улицы пожилой низколобый матрос. Он двигался медленно: видно было, что матрос тащит за собой на веревке какую-то тяжесть.
Пожилая женщина, проходившая через улицу с ведрами, остановилась и, придерживая одной рукой на плечах коромысло, другой истово крестилась.
Трое моряков, стоявших у мазанки, как-то неприязненно косились на эту процессию.
Софья ускорила шаг и увидела: матрос, обливаясь потом, волочил по улице, словно какую-то вещь, мертвого товарища. Веревка была продета подмышками трупа. Запрокинутая голова билась по земле, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону посиневшим, изможденным лицом с дико вытаращенными глазами. Закостеневшие руки и ноги мертвого матроса оставляли на уличной грязи следы, как от полозьев.
У Софьи потемнело в глазах. Она пошатнулась, хватаясь за угол мазанки.
Чья-то крепкая рука поддержала ее. Софья пришла в себя. Рядом с ней, в темнозеленых кафтанах, стояли два гардемарина: один длинноногий, с небольшими русыми усиками, скривившись, смотрел на профоса; другой – востроносый и востроглазый, лукаво посмеиваясь, держал Софью за локоток.
Софья выдернула локоть и, пересиливая страх и отвращение, подошла к толпе, окружавшей низколобого профоса.
Тут были рабочие с ближайших дворов – кузнецы, пильщики; та же баба с ведрами, несколько матросов и солдат-конвоир с двумя каторжниками в немыслимых отрепьях. Солдат был одет немногим лучше каторжных – обшлага изодранного сермяжного кафтана были разные: один – коричневый, явно крашеный ольховой корой, а другой – вычернен сажей.
Между взрослыми шмыгали ребятишки, желавшие видеть все раньше других.
Профос стоял, вытирая рукавом вспотевший лоб.
Из-за толпы Софье только были видны худые, нелепо вытянутые, голые ноги трупа.
– Что это, он сам умер, или как? – спросила, не обращаясь ни к кому, баба с ведрами.
– Не видишь разве: профос таскает – значит, человек от своих рук утерялся, – сумрачно кинул один из матросов.
– И чего ж это он, горемычный, руки на себя наложил?
– С добра не сделаешь, – живо откликнулся конвоир в сермяжном кафтане. – Вон гляди – молодчики пошли, – он кивнул на проходивших по улице чьих-то, княжеских или посольских, гребцов. Гребцы были в новеньких красных триповых мундирах и черных бархатных колпачках с золотыми кистями. – Таким голубчикам петля на ум не придет: сыты, обуты, одеты. А поживи, как наш брат, солдат, по два года без жалованья да походи в таких отрепьях – во (конвоир расставил руки, глядя на свой неказистый кафтан), что даже летом в караул совестятся назначать, – до всего дойдешь! – запальчиво сказал он и обвел всех глазами, точно желая посмотреть, кто будет оспаривать эту истину.
Толпа молчала.
Профос поплевал на ладони и потащил труп дальше.
Толпа медленно расходилась.
– А зачем все-таки таскать его по улицам? – робко спросила Софья у востроносого гардемарина, который ни на шаг не отходил от Софьи.
– Закон такой: артикул сто шестьдесят семь, – колол Софью острыми глазками гардемарин.
– Да не сто шестьдесят семь, а сто шестьдесят четвертый артикул, – улыбаясь белыми, ровными зубами, сказал его длинноногий товарищ. – Дался тебе в память сто шестьдесят седьмой!
Софье вдруг стало стыдно, что она говорит с незнакомыми. Она круто повернулась и, не оглядываясь, быстро пошла к Адмиралтейству.
– Куда же вы, цыганочка? – кричал вслед востроносый гардемарин.
– Да брось ты, Масальский! Хочешь и вправду сто шестьдесят седьмой артикул заработать! – смеялся товарищ.
Софья почти бежала. Из головы не выходила ужасная процессия.
«Кто такой профос?» – думала она.
Но, вместе с этими мыслями, мелькали и другие:
«Востроглазый – такой смешной, лицо, точно у курицы – без подбородка. А тот высокий очень недурен».
V
– С духовными архиепископ сам справится: на Лазаря Кабакова хорошее доношение состряпали, все его продерзости вывели – и как на мосту, у Алениной трубы, пьяным валялся и как в епитрахили верхом на лошади ездил. А вот чем бы князю Гагарину рот замазать?
Галатьянов озабоченно посмотрел на Шилу.
– Кому? Губернатору? Балаболке этой? А он при чем тут? – удивился Шила.
– В следственной комиссии на архиепископа горы роет.
– За что?
– Чорт его знает. Обиделся, должно быть, что Филофей ему меду митрополичьего не прислал.
Шила сосредоточенно думал о чем-то, пощупывая свою пегую, клинышком, бородку.
Они стояли у гостиных рядов, на углу. Мимо них шли с базара и на базар пешеходы, ехали подводы.
Базар шумел. Ржали лошади. Где-то пронзительно визжал поросенок.
Слепцы-нищие монотонно тянули божественную песню:
Гремя колесами, с площади выехала порожняя телега. Мужик, сидевший в телеге, увидев Шилу и Галатьянова, содрал с головы шапку.
Шила глянул на него и просиял:
– Михалка! Печкуров! Погоди! – весело крикнул он.
Мужик послушно остановил лошадь.
– С чем это приезжал? – подходя к нему, спросил Шила.
– Мясо привозил – хозяин корову зарезал.
– Что ж, Боруху мытных и корчемных доходов уже мало? Мясом торговать задумал? – помрачнев вдруг, сказал Шила.
– Не, корова объелась житом, ее и прирезали.
– Почему сам Борух или его сынок Вульф не повезли, тебе доверили?
– Вчера ж была суббота: им ни ездить, ни торговать нельзя – грех.
– А что ты воскресенья не соблюдаешь – это ничего?
– Э, мне – соблюдай, не соблюдай – одна корысть: все равно без хлеба сидеть! – иронически улыбаясь, махнул рукой Печкуров. – Орем землю да глину, а едим мякину, как говорится…
– У меня, Михалка, к тебе дело есть. Заедем на минутку к нам, – сказал Шила.
– Проше, – ответил Печкуров, услужливо уступая место, а сам садясь в передок телеги.
– Пане Галатьянов, поехали, – кивнул Шила.
Грек, не понимая еще, какое отношение может иметь эта встреча к их недавнему разговору, послушно сел в телегу рядом с Шилой.
Корчма была набита битком – разъезжались с базара, и народ все время прибывал.
На лавках за расшатанным столом давно не хватало места – пили стоя. Двое питухов удобно расположились в углу, усевшись на черном от стародавней грязи, заплеванном полу.
У стойки было особенно тесно – лезли, толкаясь, к бочке с полпивом.
За бочкой лежало пропитое добро: поношенная свитка, новые лапти, трубка полотна, старый хомут. А сверху всего нелепо подпрыгивали связанные по ногам курица и петух, – хозяин, видимо, не донес их до базара. В корчме стоял дым коромыслом – шум, гам, песни, ругань.
Кто-то стучал по столу кулаком так, что дребезжала посуда. Кто-то надсадно икал и отплевывался. Какая-то подгулявшая баба задорно пела «подушечку»:
Лысый пьяненький дед в дырявой посконной рубахе, подпоясанной лыком, все время лез к бочке, ругаясь со всеми и крича целовальнику:
– Серега, орлёная твоя душа. Отдай шапку!
Целовальник, проворный русоволосый парень, делал свое дело, не обращая внимания на крики.
– Хитер, дед, – пропил шапку, а теперь назад требуешь! – пошутил кто-то.