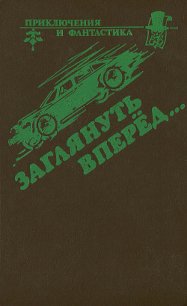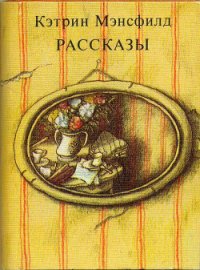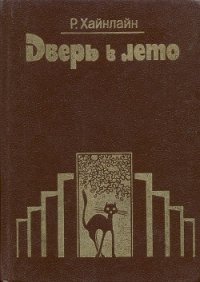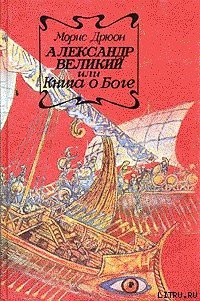Сладострастие бытия (сборник) - Дрюон Морис (версия книг .txt) 📗
Ежедневные аплодисменты, цветы и восхищенные взгляды почитателей позволили Элизе Ламбер сохранить бесконечную прелесть и обаяние. Она была красива и одевалась всегда с продуманной изысканностью, но здесь ею руководило не пустое стремление выделиться. Просто она хорошо знала, что актриса должна быть заметной. Когда она проходила по улице, мальчишки-разносчики из кондитерской, с корзинами на головах, останавливались, округляли глаза и восхищенно свистели ей вслед. Это был самый верный признак того, что она все еще «божественная Ламбер», остальные похвалы в счет не шли.
Но на сколько еще лет? На сколько ролей? На сколько счастливых ночей?
В ту зиму, выходя на сцену, она каждый раз задавала себе вопрос: «А он сегодня придет?» И по вечерам, когда умолкали овации и опускался занавес, она входила к себе в гримерную и на секунду прислонялась к стене. Опустив руки и закрыв глаза, она вслушивалась, как биение сердца стихает вместе с шумами театра. Из подъездов выходили зрители, машинисты собирали на сцене декорации, расходились по домам гардеробщицы. Огромный корабль из бархата, искусственного мрамора и позолоты погружался в тишину и темноту… и жизнь, которой Элиза Ламбер жила в течение трех часов на сцене, волнами отливала от нее, как море отливает от берега. Она открыла глаза… Анри Нодэ был здесь. Его высокая фигура не вязалась с мехами, розами, венецианскими флаконами и фальшивыми диадемами, которые в беспорядке заполняли гримерную. Он вертел в длинных пальцах монокль и покачивал туфлей на узкой ноге.
Сидя за столиком и разгримировываясь – у нее были красивые плечи, и она не упускала возможности их показать, – Элиза разглядывала в зеркале лицо молодого драматурга и спрашивала себя, может ли она принять такой подарок судьбы.
«Он родился в тот год, когда я дебютировала. Слишком дорогое подношение, я не имею на него права».
У артистического выхода дожидался фиакр. Нодэ проводил ее до самой двери, и тут между ними на миг возникло неловкое молчание, которое очень удивило бы всех, кто в Париже шептался об их интрижке. Он ожидал приглашения, она ожидала признания, но губы их отказывались говорить. Оба они боялись: она – разрушительных последствий страсти, он – показаться смешным в своем чувстве. Оба застыли на пороге желанного, как застывают, не решаясь нырнуть в слишком высокую волну или закружиться в вихре вальса там, где уже нелепо задыхаются от тесноты множество пар. И каждый вечер, выходя из фиакра, Анри Нодэ на несколько секунд задерживал ее руку в своей, а она не шла дальше робкого, тихого «спасибо».
Вот тогда-то и вмешался господин де Тантоуэ, сыграв роль «близкого друга». Эти «близкие друзья» часто женят тех, кто даже не знает, что помолвлен, и объявляют о чьем-то разводе раньше, чем те, кого они разводят, узнают о собственных намерениях. В любви таких «близких друзей» надо остерегаться, ибо им мало нас трактовать, они норовят давать нам установки, и в результате они помимо нашей воли заставляют нас делать то, что сами для нас и придумали.
Господин де Тантоуэ разменял шестой десяток, у него были серые глаза и причесанные на прямой пробор седые волосы. Он носил серые рединготы и занимался судостроением.
В течение многих лет Элиза Ламбер была роскошной составляющей его жизни, причем роскошной по-настоящему, то есть со всех точек зрения бесполезной. Этот властный человек питал к актрисе чувство, которое иначе и не объяснишь, как тягой к тому, что представляло полную противоположность его характеру и было чуждо его понятиям. Он состоял в застарелых воздыхателях и давно уже позабыл о своих воздыханиях. Теперь он утвердился в скромной роли надежного советника, конфидента и великодушного обожателя, который всегда под рукой. Что давало ему ощущение сопричастности феерическому миру искусства и сцены.
Как-то утром он зашел к молодому драматургу в маленькую частную гостиницу на улице Райнуар, где тот квартировал.
– Дорогой Нодэ, – сказал господин де Тантоуэ, – мы с вами мало знакомы, но вам известно, какая давняя дружба связывает меня с Элизой. Эта дружба меня сюда и привела. Интерес, который вы проявляете к ней, ни для кого не секрет, а тот интерес, который она проявляет к вам, увы, и того менее. Вас покорило – а кого бы не покорило? – ее обаяние, тем более ореол успеха, что сияет над ее головой, очень привлекателен для вашей карьеры. Талант тянется к таланту, и ее трогает – а кого бы не тронула? – ваша победная молодость. Вы собираетесь совершить дурное дело. Ведь вы станете ее последней любовью, и то, что для вас будет удовольствием, для нее обернется драмой. Законы возраста еще никому не удавалось обойти. Вы еще пребываете в поре завоеваний, а Элиза входит в пору потерь. Пройдет несколько месяцев, может быть несколько недель, и вы ее оставите, и я, хорошо ее зная, не уверен, что она перенесет этот удар. Если вы хотите повести себя достойно, то должны прекратить эту игру, где ставки слишком неравные.
Анри Нодэ, в домашнем бархатном халате цвета граната, молча попыхивал сигарой, хотя мог бы, конечно, ответить: «Месье, когда я впервые увидел игру Элизы Ламбер, мне было шестнадцать. Я вышел из театра в таком восторге, с таким ощущением произошедшего чуда, какого никогда больше не испытывал. Это Элизе я обязан пробудившимся во мне желанием писать для сцены, это благодаря ей я стал потом знаменит. Тогда я поклялся себе, что когда-нибудь ее завоюю… И вот прошло десять лет, и я вхож в ее гримерную и провожаю ее по вечерам».
Но он ничего не сказал.
– Я вижу по вашим глазам, дорогой Нодэ, – продолжал судовладелец, – что вы сомневаетесь в бескорыстности моей позиции. Однако что бы вы ни думали, но я никогда не питал к нашей дорогой Элизе никаких чувств, кроме чистейшей дружбы. И скорее всего, не смогу питать, потому что послезавтра уезжаю в Америку. Я перевел туда все свои дела и планирую пробыть там долго. Если и вернусь, то очень не скоро, если вообще вернусь. Если бы не это обстоятельство, я никогда не отважился бы на разговор с вами. Я уверен, что вы человек благородный и поймете меня. Поверьте: вы выбрали дурной путь, не ходите по нему дальше.
Анри Нодэ проводил гостя, пожелав ему счастливого пути. Как только дверь за ним закрылась, он пожал плечами: «Я знаком с комедийным персонажем амплуа „благородный отец“, но мне никогда не попадался „благородный друг“…»
Демарш господина де Тантоуэ привел совсем не к тому результату, которого тот ожидал. Вместо того чтобы держаться от Элизы подальше, Нодэ прикинул ее возраст и решил, что если хочет осуществить мечту своей юности, то должен поторопиться. Он убедился, что надо настаивать на своих желаниях, и в тот же вечер понял, что эти желания разделяют. Элиза только того и ждала.
Все случилось так, как должно было случиться, то есть актриса поначалу робко, а потом со всем отчаянием страсти полюбила своего молодого почитателя. И как только она убедила себя, что счастье продлится вечно, Нодэ ее бросил.
Она разом утратила все свое долгое волшебное очарование. Слезы, пролитые летом, смыли с ее лица былую свежесть, и ни грим, ни румяна, ни свет рампы не смогли ее вернуть. Мальчишки-разносчики перестали оборачиваться на нее на улице. В первой же пьесе, сыгранной по осени, она не имела успеха. Почувствовав, что ее светильник угас, она вскоре ушла из театра.
Сразу после разрыва она поклялась больше никогда не видеться с Анри Нодэ. Об этом она ему написала и велела передать на словах. Очень довольный таким запретом, освобождавшим его совесть, Нодэ сделал все, чтобы она свое слово сдержала.
Удивительное дело: если двое любят друг друга, то судьба то и дело переплетает и соединяет их пути, зачастую без всякой причины. Но когда они расстаются, та же сила, что когда-то толкала их друг к другу, начинает их загадочным образом разъединять. Ни разу за двадцать последующих лет Элиза и Нодэ не встретились ни на улице, ни на вернисажах, ни на приемах, ни на похоронах, ни разу не подозвали один и тот же фиакр. И вдруг на банкете в честь одного из старых актеров они оказались рядом. Анри Нодэ сделал именно ту карьеру, которую ему предрекали. Красота его изрядно поблекла, он отяжелел от работы, успеха и бесконечных званых обедов. Усы стали короче, на лбу появились залысины, из гардероба исчезли яркие галстуки. Он стал более многословен, понимая, что в перерывах между блюдами от него ждут какой-нибудь острой шутки или едкого замечания.