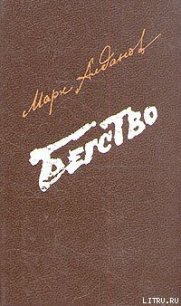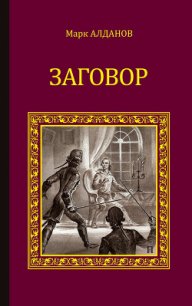Истоки - Алданов Марк Александрович (бесплатные книги полный формат txt) 📗
У рояля спиной к входу стоял первый вагнеровский еврей: дирижер Герман Леви, еще не совсем свой человек в доме, но уже очень близкий к «Ванфриду». Он откинул назад лысую голову и страшно жестикулировал обеими руками, — в правой он держал «Байрейтер Блэттер». Глаза у него были закрыты. Лицо его, как лицо Рубинштейна, свидетельствовало о наслаждении, о невероятном, сверхъестественном наслаждении. «Такое наслаждение верно испытывают мусульмане в Магометовом раю, да и то разве лишь при приближении прекраснейшей из всех гурий», — подумал Майстер. Он подумал также, что Леви, сын Гиссенского раввина, дирижирует так, как, должно быть, молились его предки. Рубинштейн играл превосходно, — но то да не то. Однако, к непониманию Майстер, совершенно презиравший виртуозов, привык очень давно. Теперь в нем над всем преобладало умиление. «Ах, какие чудные, милые, хорошие люди!»
Они вначале и не заметили его появления. Потом Рубинштейн медленно открыл глаза, как на сцене открывает глаза просыпающаяся в реалистической пьесе артистка. И мгновенно выражение восторга сменилось на его лице выражением крайнего отвращения, будто он только что съел что-то очень противное. Он еле поздоровался с Майстером. Через минуту полились гневные речи на дурном немецком языке. Он говорил о какой-то новой антисемитской выходке Майстера. Положительно он ставит их в невыносимое положение. По чувству собственного достоинства они должны будут сделать выводы. Так дальше продолжаться не может.
Майстер изумленно поднял брови и руки. Хотя такие сцены повторялись после каждого его антисемитского слова, то есть не менее раза в неделю, он искренне не понимал, чего от него хотят. Сказал? Да, сказал. Мало ли что говоришь! Так что же? В чем дело? Неужели им не стыдно? Разве они не знают, как он их любит и ценит? Разве для него может иметь значение, что они евреи? Еврей это Иоахим, который предал дело! — Под делом Майстер, как и Козима, разумел служение его музыке. Обращался он преимущественно к Герману Леви. Дирижер неодобрительно молчал. В отличие от Рубинштейна, он был человек очень серьезный, образованный и уравновешенный (хоть впоследствии заболел душевной болезнью). Майстер ценил его. Все дирижеры ничего не понимали, но этот понимал немного больше, чем другие. Иоахим, перешедший от Вагнера к Брамсу, был предатель, но Леви, перешедший от Брамса к Вагнеру, был человек, честно раскаявшийся в своем заблуждении. Кроме того, он был любимый дирижер короля. По всем этим причинам, с Германом Леви надлежало быть очень любезным. Однако, Майстер не мог справиться со своим характером и со своим языком даже тогда, когда знал, что сам себе вредит.
— …Дорогой друг, — говорил он, взяв Леви за пуговицу (они были одного роста). — Разве для нас может иметь значение что бы то ни было, кроме дела, которому мы все честно служим? И притом разве вы не такой же немец, как я? Ну, положим, не совсем такой… Я впрочем, говорю это так… Вы знаток Гете… Конечно, можно задать вопрос, чувствуете ли вы Гете, как я. Но может быть, и чувствуете… Я положительно не понимаю, за что он сердится! Объясните мне, ради Бога, в чем дело. Разве я враг евреев? Вот католики говорят, что они старше нас, протестантов. А вы, евреи, старше всех и, следовательно, всех благороднее. Хотите ли вы, чтобы я это сказал в печати? Хотите?
— Майстер, действительно могло бы иметь большое общественное значение, если бы гениальный человек, как вы, высказался в печати по еврейскому вопросу не в том духе, который вам приписывается, — уныло сказал Герман Леви, очень сомневавшийся в том, чтобы Майстер высказался по еврейскому вопросу в желательном духе. Леви вообще не любил споров, да еще политических, да еще об еврейском вопросе, да еще с Вагнером, с которым спорить было совершенно бесполезно.
— Я выскажусь! Я непременно выскажусь в ближайшем же номере «Байрейтер Блэттер»… Или нет, не в ближайшем, а тогда, когда я кончу работать над «Парсифалем»… Вы ведь не хотите, чтобы я боосил для этого «Паосифаля»? Рубинштейн, вы хотите, чтобы я бросил «Парсифаля»? Лучше напишите об этом статью вы сами, а? Впрочем, вы, Рубинштейн, ужасно пишете по-немецки. Почему бы вам не научиться немецкому языку как следует? Хотя, я знаю, это очень трудно еврею, они все пишут как-то так…
— Гейне писал по-немецки никак не хуже вас! — огрызнулся Рубинштейн.
— Не хуже меня! Что он говорит!.. Я знал Гейне. Конечно, он хорошо писал. Но почему он назывался Генрих? Я уверен, что его звали Герш, а? Вот что я в вас особенно ценю, дорогой Леви: вы могли бы называться Левенштейн, Левенберг, Левенталь, Левенфельд, Левенштерн, — нет, вы Леви, это очень, очень хорошо! Правда, вы Герман… Вы действительно Герман? Как у раввина мог оказаться сын Герман? Впрочем, мне совершенно все равно. Вы можете называться хотя бы Вотаном. Будьте Вотан Леви, дорогой друг! Нет, поверьте, я решительно ничего против вашего племени не имею… Если б только оно не занималось музыкой… Не все, конечно, Боже избави!
— Вы, однако, в свое время писали, что дуэт из четвертого действия «Гугенотов» венец музыкального вдохновения, — ядовито сказал Рубинштейн. — И еще совсем недавно вы назвали мендельсоновскую «Hebraiden Ouverture» [139] одним из лучших шедевров германской музыки.
— Вот видите! Вот вы сами говорите!.. Конечно, я немного преувеличил. Мендельсон и Мейербер были скверные людишки, но они давно умерли, Бог с ними!
— Майстер, помните, что Браме жив, и он не еврей! — сказал Рубинштейн еще ядовитее. Вагнер тяжело вздохнул.
— Да, он не еврей, — с сожалением сказал Майстер. — Это даже непонятно… Вы знаете, у Листа есть свой план разрешения еврейского вопроса. Он хочет, чтобы евреи переехали в Палестину. Это у него от любви к искусству: он думает, что еврейское искусство расцветет на национальных корнях. Я решительно ничего против этого не имею… Я хочу сказать, против расцвета еврейского искусства. Вы переедете в Иерусалим, Леви? Кто же тогда будет дирижировать «Парсифалем»? Нет, нет, с евреями можно жить… Вот французы, действительно, нехороший народ, — сказал Майстер, вспомнив о Бенедиктусе. — Или поляки, а? Проклятый Ницше имел наглость послать мне свою последнюю книгу. Он изменил нашему делу и обвиняет в измене меня! Он меня обвиняет в том, что я вернулся к христианским идеям! А если даже и так? Почему мне не вернуться к христианским идеям? Разве я подрядился быть язычником?.. Вы еще не знаете, какая Страстная Пятница будет в «Парсифале», я никогда в жизни ничего равного не писал! — сказал он Рубинштейну, у которого глаза тотчас стали из брюзгливых восторженными: теперь у него был такой вид, будто он смотрит на самое вкусное в мире блюдо.
— Разве Ницше поляк? — спросил Леви, очень довольный прекращением разговора об евреях. Взглядов Майстера по польскому вопросу он не помнил, но ему казалось, что когда-то Майстер чуть только не служил делу польской революции.
— Разумеется, поляк. Его лицо лучше всякого паспорта. Талантливый был человек, но предатель, — с новым вздохом сказал Майстер. — Леви, скажите этому проклятому вашему единоверцу, чтобы он еще сыграл из «Парсифаля», если он не окончательно меня возненавидел, а? А я его люблю, нежно люблю. Только играет он не так, как нужно. Прекрасно играет, но не так, как нужно. Вот как нужно! — сказал Майстер и сам сел за рояль. Рубинштейн взглянул на него насмешливо: игра Майстера была совершенно беспомощной. Он сам это знал и, поиграв с минуту, опять вскочил, выхватил из подсвечника свечу и запел, жестикулируя почти как Леви. Пел он много лучше, чем играл, но объяснить, как надо играть музыку «Парсифаля», не мог. Рубинштейн больше не сердился, — нельзя было сердиться на такого человека. Так, Ганс фон-Бюлов, у которого Вагнер увел Козиму и который считал своего бывшего лучшего друга совершенно бессовестным, аморальным человеком, говорил, что можно все простить создателю «Тристана и Изольды». Герман Леви, вслушиваясь, не спускал глаз со свечи и тщетно старался понять, чего хочет Майстер. Рубинштейн сел за рояль. На лице Майстера снова изобразилось страдание: то да не то.
139
«Еврейская увертюра» (нем.)