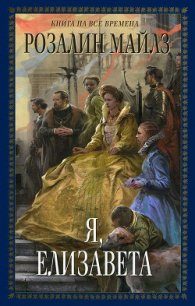Елизавета Петровна - Сахаров Андрей Николаевич (книги полностью TXT) 📗
– Не заслужил, дармоед! – без стеснения говаривал он.
Недостатка в деньгах у Ваньки не было, но работать даром ему было не по душе. Поэтому немудрено, если он в последнее время был в очень плохом расположении духа, что прежде всего отражалось на жене.
Не показывая вида, Алёна внутренне очень радовалась, когда муж долго не приходил домой. И немало рада была она и теперь, когда Каин сумрачно приказал ей утром «собрать ему поесть», потому что, по всей вероятности, ему раньше поздней ночи домой не попасть.
Проводив мужа, Алёна весело оделась и ушла из дома. Она хотела воспользоваться часами свободы для того, чтобы навестить свою приятельницу – Ольгу Михайловну Воронцову, ту самую, к которой был неравнодушен Ванька, и погулять с нею, пользуясь тёплыми весенними деньками.
Воронцова составляла полную противоположность Алёне, но, быть может, именно это-то и влекло их друг к другу. Насколько Алёна была вздорна, изворотлива, безнравственна, настолько же Воронцова была сдержанна, проста и строга к себе. Очень рано овдовев, не испытав в замужестве того счастья, о котором мечтают девушки, она тем не менее физически и морально осталась верной памяти мужа. Глубоко набожная, истинно-христиански милосердная, готовая в любой момент бросить всё и лететь на помощь страждущим и обиженным, она вызывала в Алёне чувство почтительного обожания. Воронцова представляла собою тот светлый женский идеал, те положительные свойства женской души, которых не хватало самой Алёне, а последняя бессознательно представлялась Воронцовой олицетворением женской гибкости, изворотливости, приспособляемости. Обе вместе они являли собою полный образ женщины во всей его широте и многообразии, а потому чувствовали себя хорошо друг с другом.
Как и ожидала Алёна, Воронцова оказалась дома и охотно пошла прогуляться с нею. Разговаривая о своих бабьих дела, они попали на Невский, где их увлекла за собою большая толпа, следовавшая за глашатаем, объявлявшим с барабанным боем об отставлении фельдмаршала Миниха от всех занимаемых им должностей. Так дошли они до набережной и уселись там на одну из скамеечек.
В этот час гулявших было мало, а толпа свернула в другую сторону, вслед за глашатаем. Солнце уже чувствительно пригревало, и было что-то в воздухе, от чего даже обычно бледные щёки Воронцовой зарумянились и зарделись.
– Глянь-ка, мать моя, – весело воскликнула Алёна, – монах-то этот словно с иконы соскочил!
Воронцова взглянула по указанному ею направлению и увидела довольно высокого, плечистого, сгорбленного бременем лет старичка монаха, который тихо брёл, опираясь на высокую палку. Из-под потёртой скуфейки выбивались редкие пряди седых волос; лицо, тёмное и взборождённое морщинами, словно потемневший от времени чудотворный лик, говорило о молитвенном изнурении и воздержании в пище, густые седые брови, из-под которых сверкал острый, проницательный взгляд, придавали лицу грозное, духовно-воинствующее выражение.
Не доходя нескольких шагов до наших подруг, монах вдруг пошатнулся и должен был с силой опереться на палку, чтобы не упасть. Затем он с трудом подошёл к скамейке, на которой они сидели, и тяжело опустился рядом с ними!
– Ох, грехи-грехи! – прошептал он задыхаясь. – Уморился, ноги не держат!
– Издалека, верно, отче? – сочувственно спросила Воронцова.
– Издалека, мать моя, издалека – из Киево-Печерской лавры бреду! – всё ещё задыхаясь, ответил монах.
– Батюшки, страсти Господни! – всплеснула руками Алёна. Она была скорее суеверна, чем набожна, а сколько чудесных рассказов пришлось ей слышать об этой святыне; и представитель мест, где творились непостижимые уму вещи, тоже казался ей повитым неземной тайной. – Что же тебя, батюшка, сюда-то привело?
– За подаянием, мать моя, хожу! Как сгорел у нас лет двенадцать тому назад монастырь, так всё ходим да собираем. Вот задумали колокольню выстроить, превыше которой во всей Руси православной не было, дабы колокола священным голосом немолчно имя Божие по всей округе прославляли, а сколько всё это стоит? Вот я хожу да собираю… Много нас, братии, по Руси ходит!
– Ах, беда какая! – сказала Воронцова со слезами в голосе. – А я как на грех деньги дома забыла!
– Что же, я могу, дочь моя, с тобой дойти, – сказал монах. – Ежели у кого рвение к благотворению имеется, то грех не поддержать!
– Уж лучше ко мне домой пойдём, – предложила Алёна, – ко мне ближе. Да и я тоже свою лепту внесу!
– Вот что я хотела тебя спросить, батюшка, – сказала Воронцова, – большое у меня затруднение имеется. Хотела бы я в какой-нибудь святой монастырь, хотя бы и в ваш, внести вклад, чтобы молились за одного человека, да не знаю, как быть: неизвестно мне, жив он или умер! Ежели за упокой молиться, а он жив, как бы греха на душу не взять. Вот и не знаю, как быть… Присоветуй, батюшка, Христа ради!
– Трудное твоё дело, дочь моя, – сказал подумав монах, – но и ему помочь можно. Только для этого придётся мне совершить великое, страшное и чудесное таинство, и ежели оное нарушить, то обрушится оно и на твою голову, и на голову того, о ком молиться хочешь! Ты где живёшь?
– Вон там, на Выборгской, не так уж далеко, отче!
– Не по пути мне это, дочь моя, не по пути, – ответил монах. – Ты скажи мне, где ты живёшь, я к тебе вечерком зайду.
– Да что ты, Михайловна, – обиженным голосом заметила Алёна, любопытство которой было разожжено до высшей степени, – почему же ко мне не пройти? Ведь я тут совсем поблизости живу!
– И то правда, отче, – сказала Воронцова, – меня это так томит, что хотелось бы поскорее правду знать, жив ли он или умер!
– А можешь ты за свою подружку поручиться? Помни, ежели она будет болтать о том, что увидит и услышит, так великие беды случатся!
– Могу, отче. Она меня не выдаст…
– Да разрази меня Господь! – перебила подругу Алёна. – Чтоб у меня глаза вылезли, чтобы у меня чрево лопнуло, ежели я хоть одно словечко промолвлю! Чтобы мне без покаяния умереть, чтоб…
– Довольно, матушка, довольно, – остановил её монах, – не злоупотребляй страшными клятвами: Господь и так услышал тебя! Ну так идём, а то мне ещё к одному милостивому жертвователю успеть надо!