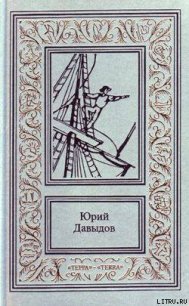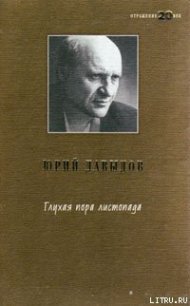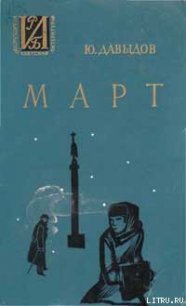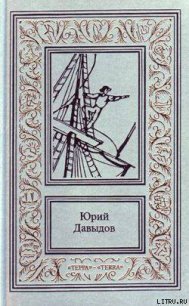Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (книги онлайн полные txt) 📗
В мае он поспешно убрался из города.
Горский тосковал по пейзажу, это было как голод. Но это было и не совсем так, ибо он искал спасения – он больше не мог жить там, где жила Зинаида Степановна.
Он следил за ней в Латинском квартале, из углового кафе, дожидаясь, когда она со своим златокудрым Бруно отправится на прогулку. Он попадался ей навстречу будто ненароком. Она пеняла ему, что он перестал бывать у Лаврова, он, краснея, оправдывался занятостью.
Он не показывался на улице Сен-Жак после того, как там, у Петра Лавровича, познакомился с мужем Зинаиды Степановны. Она сказала: «А вот и мой беглый каторжник». Лопатин, замедлив поклоном, пристально взглянул на Горского. Потом, дома, художник мучительно вникал в смысл этой пристальности и нашел иронию, тревогу, надменность.
Горский твердил, что он нисколько не виноват перед Лопатиным. И все-таки чувствовал себя мазуриком. Это было непереносимо, надо было бежать. Он сказал Зинаиде Степановне, что собирается в деревню, на пленэр. Они стояли под платаном. Потупившись, Горский ощущал, как дрожит лист на дереве. Да, да, мямлил Горский, уезжаю в деревню – пленэр, знаете ли, открытые пространства, вот только не могу решить, куда ехать… Она сказала: «Пожалуй, в Буживаль».
В Буживале, от Парижа недальнем, Горский нанял квартиру во втором этаже, над молочной. В молочной можно было столоваться не только молочным: аромат бараньего рагу раздразнил бы и ипохондрика. Колокол романской колокольни возвещал время. Буживаль называли деревней. Горский назвал бы селом – и церковь есть, и жителей тыщи три.
Из знаменитостей в этот сезон никто, кажется, не жаловал Буживаль, наезжали лишь грядущие рембрандты в компании с «лягушками», то бишь резвыми созданьями, не слишком благопристойными. Будущие мэтры щеголяли в лихо заломленных мятых шляпах и в блузах, заляпанных краской; горластые, они обращались друг к другу не иначе как «идиот», «кретин», «осел». Их подружки, презирая купальные костюмы, прелестно обнажались под ивами и лезли в воду, хохоча и брызгаясь.
Если у берега свернешь направо и поднимешься по крутому проселку в красивый английский парк с каштанами и ясенями, увидишь двухэтажную виллу «Les Frenes» 12.
Вилла не нравилась Горскому своей архитектурной слащавостью. Еще учеником Академии художеств он побывал в Риме, в окрестностях Вечного города были точно такие же. Но, глядя на тамошние виллы, Горский не испытывал недоумения. А здесь, в Буживале… Автор «Бежина луга», «Хоря и Калиныча» – и эдакая напыщенность?
Между тем именно эта вилла овеяла Горского как бы внезапным и радостным озарением. Он хлопнул себя по лбу: как было ни догадаться еще там, в Париже, под платаном? Нет, не догадался, сдуру предположил, что Зинаида Степановна посылает его в Буживаль, как в традиционную мекку живописцев. А теперь-то и сообразил, понял – ведь Зинаида Степановна (впрочем, ее муж тоже, но это неважно, это не имеет значения) в давней дружбе с Тургеневым, а стало быть, в Буживаль ей ездить куда как удобно.
И влюбленный Горский стал ежедневно заглядывать на железнодорожную станцию. Он расхаживал по дебаркадеру, напустив на себя вид рассеянной независимости. Но едва слышался свисток локомотива – замирал. Увы… И оставалось наблюдать, как клочья паровозного дыма, перетекая деревья, дают листве причудливые оттенки.
Зина и вправду намеревалась часто навещать Тургенева: рядом с виллой, где жила со своим семейством мадам Виардо, был деревянный домик с мансардочкой и островерхой крышей. В оконной раме – вид на излучины Сены. В настенных рамках – виды Орловщины: «Береза с сороками», «Взбудораженное поле», «Долина с колодцем», «Дорога вечером»… Одна из сорок смахивает на цаплю, поле немного серо, а придорожная больница, пожалуй, уж слишком бела. Что за беда, если все так гармонично, так мягко, хорошо и верно. Да ведь и он сам, Иван Сергеевич… Иные находят в нем нечто от Юпитера! Этого нет, есть гармония и мягкость, все так хорошо и верно, даже этот слабый рот и тонкий голос. Посылая Горского в Буживаль, Зина намеревалась бывать там часто. И, может быть, не только ради Тургенева. Но теперь, после того как там побывала Скворцова, Зина боялась Буживаля.
Зинина подруга недавно ездила в Буживаль. Мадам Виардо, желтолицая, похожая на мула, владычица и усадьбы, и судьбы Тургенева, высказала мадемуазель Скворцовой резкое порицание: он утомлен визитациями, вот только что была Тата Герцен, он очень плох, нельзя же так… И вдруг огромные, прекрасные глаза ее наполнились слезами. «Идемте», – сказала мадам Виардо.
Тургенев лежал на застеленной постели. Он был в сером просторном костюме, в петличке – цветок. Он поднял большую тяжелую, словно литого серебра, голову; приглашающим жестом повел кистью руки, у него была широкая белая ладонь. Мадам Виардо вышла. Скворцова присела у изголовья. Перемена в облике Ивана Сергеевича сразила ее. Тургенев был измучен донельзя, морфий лишь на краткий срок утишал муки. Он смотрел молча. Потом сказал, трудно ворочая языком:
– Видите, в каком я положении. Страдаю невыносимо. Помочь никто не может, кто бы ни лечил… Послушайте, я человек не верующий и вправе распоряжаться своей жизнью. Прошу вас, дайте мне отраву, и я покончу с этими мученьями.
Что?! – вскрикнула Скворцова. – Что это вы говорите, Иван Сергеевич!
Она успела взнуздать себя: врачу не пристала истерика.
И заговорила тем деланно ровным тоном, солидным и уверенным, каким врачи говорят с пациентами, а взрослые с детьми: ваша болезнь, Иван Сергеевич, нервная, науке известно, что поправка иногда наступает скорее, нежели предполагают; мы, почитатели вашего гения, еще очень многого ждем от вас, и я уверена… Он словно бы отодвинулся во тьму. Потом сказал, впадая в забытье:
– Да ведь я и так уже отравлен. Как же вы не понимаете причину моей болезни? Я же отравлен… Привезите мне отраву.
Он медленно смежал веки. Скворцова выбежала на цыпочках.
Вернувшись в Париж, не заходя домой, помчалась на улицу Гой-Люссак.
Германа не было. У Зины сидела Гончарова, удивлявшая внешним сходством с Петром Великим. Первой из россиянок Екатерина Дмитриевна училась на здешнем медицинском факультете. Гончарова уже заканчивала, когда Зина и Скворцова еще только поступили. Поклонницы Писарева, они не боготворили Пушкина, но в их отношении к Екатерине Дмитриевне, племяннице жены поэта, сквозила особенная нежность, отсвет детского, гиминазического, семейного. У Лаврова же и Лопатина были с Гончаровой дела практические: на ее парижский адрес поступала корреспонденция из России.
Скворцова упала в кресло, на востреньком личике кончик носа белел, как отмороженный. Они были подавлены ее рассказом. Им было страшно. Убеждение Ивана Сергеевича в том, что он отравлен… Мадам Виардо? Боже мой, как к ней ни относись… Герман судит строго: мадам экспроприировала Тургенева у России… Но это? Это исключено! Рассудок Ивана Сергеевича мутится от нечеловеческих, нестерпимых болей, от частого приема морфия… Они были подавлены, им было страшно. Кто б ни отправился в Буживаль, рискует услышать ужасную просьбу. Право на смерть не принадлежит ни одному медику в мире. Но у кого есть право рассуждать об этом бесправии у одра погибающего в муках саркомы?
А дня три спустя пришел из Буживаля конверт. Зина успела прочесть записку раньше Германа и тотчас спрятала ее. Теперь она не могла не ехать: надо было опередить Германа. Энгельс, это она знала от Лаврова, говаривал: наш общий друг – смелый, до безумия смелый… И если Герман решится… Господи, он же потом не простит себе, до гроба не простит…
Зина поехала в Буживаль. Сеялся дождик, окно слезилось, холмы и рощи затянуло мглою, придорожные вязы вскипали и метались. На дебаркадере Зина раскрыла зонтик. Длинная улица была пустынной. Только сейчас она подумала о Горском. На минуту ей вспомнилось, как он бурно взволновался, знакомясь с Германом. Она подумала: бедный Костя.
12
«Ясени» (франц)