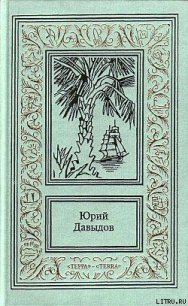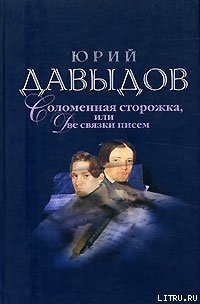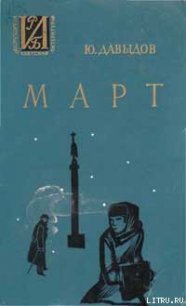Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим... - Давыдов Юрий Владимирович (книги онлайн .TXT) 📗
На какого ни укажи – другие обидятся. Ведь вот же, господи, фарт выдался: своих увидеть! И Головнин велел бросить жребий. Счастливый билет достался Дмитрию Симонову.
«Здесь я, – говорит Рикорд, – не могу не описать трогательной сцены, которая происходила при встрече наших матросов с появившимся между ими из японского плена товарищем. В это время часть нашей команды у речки наливала бочки водою. Наш пленный матрос все шел вместе с Такатаем-Кахи, но, когда он стал сближаться с усмотревшими его на другой стороне речки русскими, между коими, вероятно, начал распознавать своих прежних товарищей, он сделал к самой речке три больших шага, как надобно воображать, давлением сердечной пружины… Тогда все наши матросы, на противной стороне речки стоявшие, нарушили черту нейтралитета и бросились через речку вброд обнимать своего товарища по-христиански. Бывший при работе на берегу офицер меня уведомил, что долго не могли узнать нашего пленного матроса: так много он в своем здоровье переменился! Подле самой уже речки все воскликнули: «Симонов!» (так его звали), он, скинув шляпу, кланялся, оставаясь безмолвным, и приветствовал своих товарищей крупными слезами, катившимися из больших его глаз».
В каюте Рикорда матрос скинул куртку, распорол воротник, извлек тонкий лист бумаги, свернутый жгутом.
– Вот вам письмо от Василия Михайловича. Мне удалось скрыть его от хитрых японцев. Тут про наши страдания и советы, как вам поступать.
Рикорд несколько раз прочитал все подряд, от волнения ничего не понял. «Немного успокоившись, я все прочитал и обрадовался, усмотрев, что несчастные питаются некоторою надеждою о возвращении в свое отечество».
«Про страдания», как сказал матрос Симонов, Василий Михайлович вовсе не упоминал. А советовал следующее: быть крайне бдительными при переговорах с японцами (съезжаться на шлюпках, да так, чтобы с берега ядрами не достали); не сетовать на медлительность японцев (у них и свои мелкие дела волочатся месяцами); соблюдать учтивость и твердость (от благоразумия зависит не только свобода пленников, но и благо России); обо всем важном расспросить посланного матроса.
Заканчивал Головнин так:
«Обстоятельства не позволили посланного обременить бумагами, и потому мне самому писать на имя министра нельзя; но знайте, где честь государя и польза отечества требуют, там я жизнь свою в копейку не ставлю, а потому и вы в таком случае меня не должны щадить: умереть все равно, теперь или лет через 10 или 20 после… Прошу тебя, любезный друг, написать за меня к моим братьям и друзьям; может быть, мне еще определила судьба с ними видеться, а может быть, нет; скажи им, чтобы в сем последнем случае они не печалились и не жалели обо мне и что я им желаю здоровья и счастья… Товарищам нашим, гг. офицерам, мое усерднейшее почтение, а команде – поклон; я очень много чувствую и благодарю всех вас за великие труды, которые вы принимаете для нашего освобождения. Прощай, любезный друг Петр Иванович, и вы все, любезные друзья; может быть, это последнее мое к вам письмо, будьте здоровы, покойны и счастливы, преданный вам Василий Головнин» 62.
Приняв писаные наставления, Рикорд приступил к расспросам о неписаных. Тут стало ясно, как жеребьевка подвела Головнина: Симонов был добрым малым, но ума-то недальнего. Бедняга позабыл все «разведданные». Как ни бился Петр Иванович, матрос талдычил свое: в письме, мол, прописано. И вдруг залился слезами.
– В тюрьме шестеро наших. Если не скоро вернусь, как бы японцы не причинили им еще горшей беды.
В тот же вечер Симонов оставил корабль. Он возвращался в застенок. А «Диана» возвращалась в Россию, в Охотск, за бумагами, которые требовало японское правительство.
6
Простак Симонов не умел удовлетворить и любопытства Головнина. А любопытство было особенного свойства.
Ни один парламентарий, ни один дипломат так не алчет политических новостей, как заключенный «непростого звания». И никто так не увязывает свою судьбу с течением политических дел, как опять-таки «непростой» заключенный.
Симонова встретил Головнин будто «выходца из царства живых». Василии Михайлович голодал не только из-за отсутствия частных, прямо до него относящихся известий, но и общих – о России. Ведь связь с внешним миром пресеклась не в годы затишья, не в историческом захолустье, а в годы катаклизмов. К тому же со слов голландских корабельщиков японцы передавали, что Москва взята французами и сожжена москвичами.
«Мы, – признается Головнин, – смеялись над таким известием и уверяли японцев, что этого быть не может. Нас не честолюбие заставляло так говорить, а действительно от чистого сердца мы полагали, что такое событие невозможно».
«Смеялись»… «Невозможно»… Но, смеясь и не веря, сознавали, что дом в огне, что дома происходит нечто необычайное. И вот является «из царства живых» вестник. Вообразите, как его ждут и чего от него ждут!
Уже много позже, при мирных свечах, за бюро сидя, Головнин незлобиво усмехнулся: «Симонов был один из тех людей, которых политические и военные происшествия во всю их жизнь не дерзали беспокоить». А тогда, в тюрьме? Ох-хо-хо, досталось, верно, Симонову попреков!
Какой бы восторг сотряс Головнина, если бы он услышал в своей мацмайской темнице, что Россия воюет уже далеко от России, что она в союзе с Пруссией, Австрией, Англией, что злая звезда Наполеона неудержимо меркнет. (Впрочем, будь Симонов и семи пядей во лбу, он бы не поведал о событиях лета и осени 1813 года: и на шлюпе, прибывшем из Петропавловска, ничего про них не ведали.)
А если кого и порадовал Симонов, так это своих же братцев матросов Михаилу Шкаева, Спиридона Макарова, Григория Васильева: десять раз пересказывал подробности своего отпуска на родном корабле, чем и «доставил великое удовольствие».
Второе пришествие Рикорда, усилия Такатая-Кахи, официальные заверения в дружбе, некоторые, хоть и смутные, слухи о победах русского оружия – все это решительно отозвалось на положении семерых арестантов. «Кажется, – пишет Головнин, – японцы перестали нас считать пленниками, а принимали за гостей».
Они зажили в светлых, чистых покоях, едали на «прекрасной лакированной посуде», им прислуживали «с великим почтением». Губернатор объявил, что уполномочен отпустить русских, если «Диана» привезет в Хакодате удовлетворительные ответы на «особые пункты».
Утром 30 августа 1813 года шестеро русских и айн Алексей Максимович «церемониально, при стечении множества народа» покинули город Мацмай. 2 сентября 1813 года шестеро русских и айн Алексей Максимович вошли «при великом стечении жителей» в город Хакодате.
«Здесь стали содержать нас, – повествует Головнин, – так же хорошо; кроме обыкновенного кушанья, давали нам и десерт, состоявший из яблок, груш или конфет, не после стола, а за час до обеда, ибо таково обыкновение японцев»
Итак, вроде бы амнистировали. И они испытывали то переменчивое нервическое, нетерпеливое состояние, какое испытывают амнистированные после указа об амнистии и до выхода за тюремные ворота. Все давно опостылело, а теперь и вовсе было несносно. Время и прежде ползло черепахой, а теперь и вовсе замерло Тоска и прежде грызла, а теперь и вовсе поедом ела.
Вот этого они теперь ждали денно и нощно. Ждали, ждали… Но громкого сигнала не доносилось из гавани. И не летел трехмачтовый шлюп к Хоккайдо.
Три недели шел Рикорд из Охотска до Хоккайдо. Еще бы часов шесть-семь ходу, и «Диана» укрылась бы в безопасном заливе. Этих часов-то и не хватило. Штормовой ветер налился ураганной силой, лавировать было бессмысленно и опасно, спасти могло лишь открытое море. И желанный остров Хоккайдо пропал из виду.
62
Это послание П.И.Рикорд поместил в своей книге без каких-либо сопроводительных восклицаний, полагая, что оно говорит само за себя. Иначе поступил Ф.Булгарин. Много лет спустя ему попались подлинники японских писем Головнина на рисовой бумаге. Публикуя автографы в цитируемых выше «Воспоминаниях», Булгарин предварил их панегириком. «Письма сии вполне характеризуют геройский дух русского моряка. Если бы подобное событие случилось в Древнем Риме, то Головнин был бы прославлен, как Регул!» Преамбулой Булгарин не удовольствовался, он снабдил письма сносками: «Есть ли что выше в летописях Древней Греции и Древнего Рима!», «Вот истинное самоотвержение, т.е. геройство!», «Истинное величие!»
Не мне оспаривать сущность этих похвал, разбирать историческую достоверность мученичества консула Регула в плену у карфагенян. Примечательно другое. Автор «Воспоминаний», будучи русским офицером, дезертировал и сражался в 1812 г. под знаменами Наполеона. В 1820 г. вынырнул в Петербурге и занялся литературой. «Литераторствовал» Булгарин и для Третьего отделения, пользуясь «презрительным покровительством» тайной полиции. И вот, уже старцем, умиляется Головниным.
63
Китахара Хакусю Земля и море. Пер с яп. В.Н.Марковой