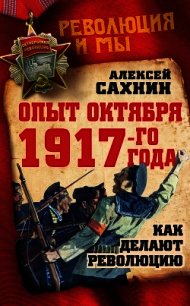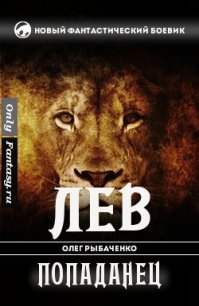Гулящие люди - Чапыгин Алексей Павлович (читаем книги txt) 📗
Глава VI. Сенька
Плохо бы пришлось Конону броннику, да его крестный отец боярин Одоевский заступился, сказал дьяку Земского двора, который написал на бронника кляузу, что-де «убогой Бронной слободы бронник, именем Конон, противился государеву указу и не пустил на двор решеточных прикащиков делать у него обыск и вынуть медь, которая по сыску подьячих у него была, а когда решеточные прикащики и сторожа пригрозили ему привести для обыска стрельцов, ночью сжег свой дом и тем злым делом учинил пожог всей Бронной слободы».
– Прекрати то дело, дьяк! – сказал Одоевский, – убог он, глух и нем; от его глухоты могло быть несчастье с домом.
Дьяк дело прекратил, но объезжий, по слухам убитый в Медном бунте, Иван Бегичев пригрозил Конону. «Мы еще до тебя доберемся, глухой!» – написал он Конону на стене белой углем. Коков долго ту надпись не стирал, чтоб плевать на нее, проходя мимо.
На пожарище, на старом месте, Конон выстроил небольшой дом. Кузницу сделал за домом в глубокой яме, выложенной кирпичом.
К нему с похорон Таисия пришел Сенька. Конон встретил Сеньку, подвел его к черной доске в углу у окна, мелом написал:
«На столбе у Земского двора я чел твои приметы: значишься ты в заводчиках Медного бунта.
Сенька также ответил ему письмом на доске:
«Боишься меня, Конон, то уйду!»
Конон нахмурился, вырвал из Сенькиной руки мел и написал:
«Дурак, не боюсь я – живи!»
Он свел Сеньку в кузницу, но свел его не наружным входом, а другим. В яму кузницы у Конона был особый вход под полом. Проход шел прежним тайным коридором, где хранились его и Таисия богатства.
В конце коридора была небольшая камора, в ней висели готовые панцири и бехтерцы. Тут же стояла деревянная кровать с постелей, набитой соломой, серое одеяло тонкое. В каморе было жарко, так как узкий проход в кузницу приходился за горном. Узкое окно, имея раму и слюдяные пластинки, было открыто и глядело прямо в небо, а выходило оно за частокол на двор, заросший бурьяном, куда никто не заглядывал.
Показав Сеньке убежище, Конон вернулся с ним в избу, посадил к столу. Принес еды и жбан пива. Сам не ел, потчевал, жестами указывая Сеньке. К столу он принес доску и написал:
«А где Таисий?»
Сенька потупился, потом, тряхнув кудрями, погрозил кулаком в пространство, взяв мел, написал:
«Убит!»
Конон положил локти на стол, сжал большими черными руками голову, потом, расправив спину, ероша волосы, не спрашивал больше, налил пива Сеньке и себе – они выпили, чокнувшись оловянными ковшами. Конон, выпив, широко перекрестился.
По утрам Конон ковал сабли или вязал панцири. Сенька стал ему помогать. На работе Конон был строг и не раз бил Сеньку клещами по рукам. Когда Сенька привык проволоку тянуть, гнуть кольца на железном пруте, а также делать, вырезать и зачищать металлические пластинки к бехтерцам, то бронник, глядя на него, изредка щелкал языком и скалил крупные зубы. Как-то раз Сенька достал из сундука Таисия маленькую золотую монету, расплавил ее и вызолотил первую пластинку бехтерца. Конон задвигался на своем татуре, сидя, и замычал, хмурясь. Схватив от Сеньки плавильник, вытряхнул золото в огонь. Сенька удивленно раскрыл глаза. Немой по глазам понял его вопрос; встал, взяв мел, написал:
«Куй сабли и не отбивай у убогого последний хлеб!»
Сенька удивился тому, что серебреник, который часто работал с ними, однорукий и одноногий, так ловко вел себя за работой и так искусно, что он позабывал, глядя на него, об его убожестве. Ему стало стыдно и того, что его кислотой он мазал пластинку и его же полировником полировал металл. Сенька ответил так же Конону:
«Прости, Конон, не буду – забыл я, что мастер убог!…»
Конон улыбнулся, погладил Сеньку по богатырской спине шершавой рукой.
Так они жили и работали. Если шел в избу не серебреник, а чужой кто, Сенька прятался. Он забывал, работая, что за стенами избы Конона есть какая-то иная жизнь. Сабли ковать и тянуть Сеньке плохо удавалось – слишком тяжела была его рука, держащая молот. Конон заметил это, сказал ему на своем языке мелом и буквами крупно.
«Куй сулебу [264] – легче будет!»
Ковка сулебы Сеньке далась лучше.
Как-то утром из кузницы они пришли отдохнуть и закусить. Мылись. Конон потом хлопотал с едой, а Сенька пил табак. Дверь в избу не заперта на замет. Дверь толкнули, в избу вошла черница в черной одежде и черном куколе. Не крестясь, тяжело вздохнув, села на лавку молча и молча сидела у дверей.
Конон, не обратив внимания, принес еду. Сенька, положив рог с табаком на окно, принялся есть.
Черница сказала знакомым голосом: —
– Семен, есть у тебя брат Петр?
– Тебе зачем знать?
– Я была у него… я тебя давно ищу…
– Выдать палачам, как выдала Таисия?
– Грех мой был… каюсь… злоба изгрызла… старики боле грешны, чем я, но один поделом своим мертв, другой – отец, и я его не ведаю…
– То было… помнить того не хочу! Зачем будишь мою память?
– Не могу жить, чтоб не видеть тебя! Твой брат Петр нынче в боярских детях ходит… дружит с боярами… дом поставил, как у отца был, так сказал и еще: «Брата сыщешь Семена, веди ко мне».
– Бояра – мои враги, и он враг, ежели дружит с ними!…
– По службе дружит…
– Уйди!
– Уйду нынче, но приду опять!
Черница встала, пятясь в дверь, долгим взглядом, выходя, глядела на Сеньку.
Конон убирал со стола; вернувшись, написал Сеньке:
«Ее глаза говорят, что знает тебя? Пошто пришла черница?»
«О брате моем весть дала!» – ответил Сенька и, положив мел, взял рог с табаком, ушел в кузницу.
Изба с курным потолком жарко натоплена. Душно в ней от печного дыма и ладана. По закопченным стенам иконы с лампадами и свечи горят. В переднем углу налой с книгами. Пять стариц-черноризниц, по очереди припадая к книге, крестятся, читают жития, бормочут молитвы. Мерзлая дверь затрещала, в избу пришла шестая черноризница Улька. Ей тихо сказали:
– Молись, сестра Юлиания…
– Сестры, прервите моление…
– Пошто нам бога гневить?
– Беса из меня изгнать надо!
– Сестры, сестры, вчуйтесь, што сказует грешница… Старицы, перестали молиться, окружили младшую; все они взяли из угла с-под лавки плети. Старшая приказала:
– Разоблачись, грешница!
Улька скинула черное платье на пол среди избы, готовясь лечь, но не легла. Сдернула рубаху на лямках, обнажилась до пояса, желтея при желтом огне крепким телом, слегка пригнулась вперед, ждала.
Старшая черноризница, собрав в узле жесткие губы, размахнулась и сильно ударила раздетую по голой спине плетью. Другие четверо выступали по очереди и также били. Ударившая отступала назад – собраться с силами, на ее место выступала другая и била. Слышался строгий голос старшей, щелкающей четками:
– Кайся, в чем грешна?
– Лицезрела прельстительное!
– Бейте, сестры, а ты кайся!
Одна из стариц читала молитву: «Да воскреснет бог!»
Черницы двигались, как в пляске; слышались удары плети, огни свечей от движения тел и рук погасли-только в углу, у черного образа, мигала одна лампада. Истязуемая стояла, шатаясь, спина ее чернела от крови, а старшая сказала громко:
– Четки показуют сорок пять! Не полно ли?
– Нашла, нашла! И ныне не покину его! – как исступленная кричала Улька.
– Бейте!
Движение черных старух, как бесовский танец, шлепанье ремней по телу…
– Полно, сестры, девяносто боев!
– Да… она уж в ногах не тверда.
Куколи черной одежды сползли с седых голов:
– Полно тебе, Юлиания, сто боев.
– Упорствует – блуд был ли?…
– Не было! Бу-у-дет… боюсь! Избитая упала на свое платье.
Старшая из прируба принесла баранью овчину. Сырой мездрой приложила к спине истязуемой; пригнетая к битым местам, говорила, как заговор:
– Блуда не было… Бог простил… от эпитемьи бес ушел… Улька, стоная, спала среди избы, а старицы зажгли у налоя свечи, крестясь. Старшая стала читать: «И видех ин ангел крепок сходяй с небес…»
264
Сулеба – род меча, только меч – прямой, а сулеба – короче, и лезвие изогнуто.