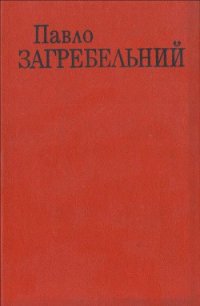Евпраксия - Загребельный Павел Архипович (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
Торжественная процессия поднялась на стены Пьяченцы. Впереди хор мальчиков в белом, который пел vexilla regis prodeunt ("вот приближаются знамена царя"). За ними шли двенадцать епископов, далее – сам папа в понтификальном одеянии, с высокой золотой тиарой на голове. Папу сопровождал епископ Пьяченцы. Потом в шествие включались архиепископы, потом императрица, которую выделили особо, учтя ее сан. Графиня Тосканская с герцогом Вельфом как бы составляли почетное сопровождение императрицы, остальные светские князья сопровождали уже их, этих двух властителей; простых людей тут, конечно, не было: каждый – сановный, титулованный, и каждый должен строго держаться места, определенного для его сана и титула.
Процессия растянулась куда как длинно. Голова ее прошла уже половину обвода стен, а хвост терялся еще где-то в улочках Пьяченцы. Тысячи простолюдинов толпились вокруг стен на берегах По и Требии, неудержимые волны катились по толпе вслед за головой шествия; любопытство раздирало глаза и души; крики, брань, стоны, проклятья, толчея, короткие драчки и стычки, ни один не хотел уступить другому, всем хотелось увидеть, услышать, впитать в себя малейшие подробности.
За толпой открывалось поле, просто поле, – зеленая, теплая от солнца трава. На ней ослепительно сверкало белое каменное раскрылье, как бы обнимавшее высоко вознесенное сооружение из огненно-красного порфира.
Зеленое поле было разгорожено светлыми кольями на какие-то длинные прямоугольные коридоры. Колья эти тоже сверкали мертвым светом, будто кости; они начинались сразу за кипением люда, прижатого любопытством к городским валам, бежали через поле, терялись вдали, даже страшно было смотреть туда, но Евпраксия не могла отвести глаз, потому что поняла: то было место, куда она завтра должна вынести свой позор и свое несчастье.
Беломраморные скамьи для прелатов, красный порфир для Урбана и разгороженное по древнеримскому обычаю зеленое поле для тысяч людей, чтобы избежать нежелательно чрезмерного скопления их в одном месте, распределить в каком-нибудь порядке. Место ее последнего позора, величайшего унижения и стыда! Сегодня ставят ее рядом с папой, а завтра отдадут на глумленье жирным прелатам и тысячам равнодушных людей, собранных сюда не для милосердия, а для новой войны, собранных, чтобы получить из рук самого папы крест и меч, а перед тем, как бы для разжигания темной ярости, в жертву бросят молодую женщину.
Мальчики пели грустно и жалобно, затем что-то изрек епископ Пьяченцы, за ним сам папа, но Евпраксия ничего не услышала; углубленная в свое завтра, в свои ужасы, не могла вслушиваться, да и не стоило, – повторялись мертвые формулы молитв, замусоленные, бесцветные, пустые, – тело без сердца и без души. Человека за такой речью не видно. Все эти епископы, короли, императоры, папы угнетающе-одинаковы в мыслях и речи, они прячутся за готовыми словесами, отгораживаются ими от жизни обыкновенной, натравляют их на тебя, будто давно сделанные кем-то щиты, изношенные, истертые, ободранные от длительного употребления, – ничего нового, полная утрата лика человеческого, чучела какие-то, что были бы смешной бессмыслицей, не употребляй их предержащие в руках власть жестокую.
А люд внизу клокотал, бился о стены, стенал, проклинал и восторгался, люд жаждал праздника, пышностей знатных; лишенный от рожденья простейшего счастья, далекий от роскоши, люд хотел по крайней мере увидеть отмеченных знаками счастья и роскоши, приблизиться к ним на расстояние взгляда. Не безумна ли затея собрать вместе столько простонародья? Или, может, есть в том затаенная мысль сделать его соучастником не только эдаких пустых, хотя и пышных, празднеств, но и преступлений людей знатнорожденных? Вот завтра ее честь, ее нежность, ее стыд будут растоптаны в этих закутках, и никто из простонародья не поймет, какую боль причинят ей, а воспримет ее позор как продолженье нынешнего роскошного шествия, высоких молитв, неумолчного звона колоколов, радостных (а может, печальных?) выкриков толпы.
Стон вырвался из груди Евпраксии и прокатился по высоким стенам, пролетел над процессией, отозвался где-то далеко позади женским криком, воплем отчаянным, в котором было самое страшное – смерть.
Но крик этот ударил по сердцу одну Евпраксию. Никто не вздрогнул, ничто не изменилось, процессия двигалась дальше, распевались гимны, возносились молитвы, папа освящал, осчастливливал.
Евпраксия оглянулась на графиню Матильду. Задрав головку, уставившись своей сухонькой мордочкой во что-то видимое только ей, будто принюхиваясь, графиня семенила перед тяжелым и неуклюжим Вельфом. Императрица остановилась, подождала, пока Матильда приблизилась, прошептала ей:
– Ваша светлость…
– Ваше величество, так нельзя, так нельзя…
– Но там произошло что-то ужасное.
– Ничего не может случиться там, где мы со святейшим папой, ваше величество. Прошу вас, идите. Люди уже смотрят…
Евпраксия обреченно пошла дальше, а душой была там, позади, где – она знала! – произошло в самом деле что-то ужасное. Не могла видеть, не догадывалась, что случилось, но ощущала безошибочно – случилось!
И вправду случилось!
Когда процессия почти во всю свою длину растянулась по городским стенам и, обтекая щербатые почернелые башни, медленно двинулась вперед, оказались среди других наверху воевода Кирпа и барон Заубуш. Объединенные и служением императрице, и увечьем своим, которое как-то отгораживало их от других людей и по-своему сближало, они и в Каноссе, и по дороге сюда, и тут, в Пьяченце, казались почти друзьями; мало кто знал, сколь жгучая ненависть друг к другу кипит в сердцах этих двух уже немолодых, но жадных до жизни мужчин, каждый из которых был по-своему жесток, но один жесток в честных битвах, а другой – в коварных интригах и преступлениях. Но все это, как сказано было, до поры до времени скрывалось, подавлялось ими. И этот день не предвещал, что ненависть вспыхнет огнем сжигающим, обещал торжества высокие, хотя для воеводы еще и омраченные ожиданием дня следующего, когда его Евпраксия, императрица, как стало известно всем заранее, должна здесь каяться, каяться перед всеми, кто прибыл на собор.
Каяться, оставаясь безвинной! Заубуш, по своей паскудной привычке, и в этой несообразности не видел ничего, никакого несчастья, на вздохи же Кирпы и сетования его посмеивался:
– Бояться нужно не слов, а меча.
– Слова бьют сильнее. Коли б мог, прикрыл собой императрицу. Но как прикроешь от всего мира?
– Хотел бы смягчить ветер для стриженой овцы? – засмеялся барон.
– Овечек я всегда жалел, а баранам обламывал рога! – со спокойной угрозой ответил Кирпа.
– Если хочешь сказать, будто моя Вильтруд уже наградила меня рогами, то ошибаешься. Не успела еще.
– Ты рогатый с рожденья, барон.
– Почему не попытался обломать рога мне?
– Не находил места по вкусу. Где бы ни ездил по этим землям, всюду – ни пес, ни выдра: камень, теснота, мечом махнуть негде. А тут вижу – хорошее поле. На таком-то поле ударишь мечом, так и гул пойдет! Как у вас называется единоборство, поединок? Вот считай, барон, что мы выбрали для себя поле. Плату получишь за все: и за Евпраксию, и за Журину, и за…
Договорить ему Заубуш не дал. Кирпа на шаг опередил его – увлекся своей добродушно-зловещей речью и шел себе, свободно помахивая левой рукой, каждый раз прикасаясь пальцами к рукоятке меча, что был нацеплен справа (лишенному правой руки приходилось приспосабливаться). Барон знал, что на просторном поле однорукий, пожалуй, осилит одноногого. Умело, жестоко и яростно ударил он воеводу своей деревяшкой под колено и, когда тот, теряя равновесие, начал заваливаться назад, со всей силой обеих железных своих рук толкнул Кирпу вниз с высоченных стен. Но Кирпа был опытным воином, твердо знающим: даже умирая, пробуй одолеть врага. И, падая уже вниз, уже видя перед глазами мир угрожающе, смертельно опрокинутым, погибающий воевода Кирпа умелым захватом зацепил единой левой рукой барона за шею, стиснул мертвой хваткой, потянул за собой, не дал высвободиться, – и в этом неразрывном единении взаимной ненависти пали оба с горы и ударились замертво о камни. Никто ничего не успел понять.