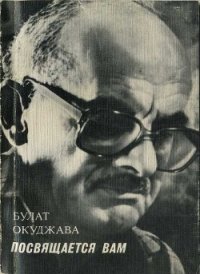Путешествие дилетантов - Окуджава Булат Шалвович (книги онлайн полностью .TXT) 📗
– Послушай, Шумский, – сказал Николай Павлович, – какую музыку ты предполагаешь там, на эспланаде?
– Кадриль–с, – заявил декоратор, не раздумывая.
– Какая глупость, – сказал Николай Павлович, раздражаясь невесть с чего, – кто же это тебя надоумил? Да спросить любого кавалериста – будет смеяться…
– Не будет, – упрямо вздохнул Шумский.
За окном послышался смех. Женщина в небесном стояла все так же неподвижно.
«Скоро я умру, – подумал Николай Павлович, – а они будут жить, и я этого не увижу. Как они будут жить, что будут делать – для меня останется тайной. Александр мягковат, его воспитывал поэт с восточной кровью в жилах и негой во взоре… Среди прочих необходимых качеств он воспитывал в наследнике великодушие…»
Тут он вспомнил своего собственного воспитателя – генерала Ламсдорфа. Генерал был суров, жесток и вспыльчив. Его главной задачей было выбить из маленького великого князя дух непокорности. Розга была его главным инструментом. В результате картина получалась довольно странная: генерал сек Николая Павловича, превращая его в совершенного солдата, матушка же пыталась отвратить сына от фрунта, ибо замечала, что чем больше его секут, тем более он становится приверженным к военным наукам. В поединке розги с вдовствующей императрицей розга взяла верх. С отвращением вспоминая разъяренную физиономию своего былого воспитателя, Николай Павлович понимал, что его безжалостную руку направляло провидение. Судьба государства, в конце концов, определялась не поэтическими пассажами Василия Жуковского, а мощью армии, которую он, самодержец, битый розгами в детстве, создавал на страх врагам. Конечно, Александр – весьма достойный офицер и, несмотря на мягкое и кроткое влияние на него Жуковского, воспринял военное искусство с должной любовью и тщанием, хотя… позволял себе утверждать иногда с непонятным упрямством, что армия увлекается фрунтовыми упражнениями, когда для нее важнее не парады, а заботы о новейшем оружии и умении его применять. Николай Павлович однажды резко заметил, что фрунтовые учения и парады не блажь, а необходимость, придающая толпе стройность, воспитывающая послушание, доверие к командиру и жажду подвига.
Женщина в небесном по–прежнему пребывала в неподвижности, на что–то уповая. Похоже было, что она молода, тонка и, очевидно, самоуверенна. Таким обычно кажется, что жизнь вечна, что можно, не считаясь со временем, стоять у розовых кустов, ни о чем не заботясь. И ему захотелось подойти к окну и, усмехаясь, спросить сыновей: «Господа, а не одного ли из вас дожидается у кустов во–он та дама?»
«Что же будет, когда я умру? – подумал Николай Павлович. – Что задумали те, кто останутся? Неужели успехи государства не доказывают моей правоты?… Чего они хотят, кивая мне и одобряя меня?…»
Раздражение усиливалось, всплывая со дна души. Еще минута – и оно начнет выплескиваться, и тогда случится самое неприятное: ему предстанут сострадающие лица сыновей, и Шумский косолапо пустится в ленивое бегство, и намеченный праздник будет отменен с удобным разъяснением, и все переменится, лишь та самоуверенная незнакомка с желтым бесполезным зонтом в руке будет неподвижно и упрямо рассчитывать на какие–то свои выгоды… Пришлось напрячься, собрать всю волю и укротить недоброе клокотание гнева. Впервые ли?…
Кстати, та незнакомка в наряде небесного цвета исчезла. Александр слушал брата с игривой улыбкой. Этот высокий красивый рыцарь был отменно вылеплен и смягчен Василием Жуковским не без императорского благословения. Да разве кто вспомнит об этом? И кто сможет впоследствии объяснить сие, а кроме того, горькие рыдания семилетнего Александра, узнавшего, что он – наследник? Он плакал не по–детски, строго, и тихо, и бессильно, сидя в углу на корточках и положив маленькие кулаки на колени, и отец, не понимая причины этих слез, все–таки не посмел пожелать ему в наставники какого–нибудь нового Ламсдорфа. Злые языки нашептывали тогда, что наследник не жилец, а он выжил. Вот он стоит сейчас под окном, улыбается брату, правда не такой твердый и властный, как хотелось бы, но достаточно зрелый, рассудительный и уже позабывший о своей детской печали.
Николай Павлович успокоился и даже предположил на минуту, что беседа братьев касается женщины. Ему даже захотелось приблизиться к окну, чтобы сыновья заметили на его лице понимающую усмешку, но Шумский что–то все закреплял у него на спине, сопя по обыкновению, да и Николай Павлович вдруг вспомнил недоумение старшего сына по поводу приказа об аресте Мятлева. То есть самого князя Александр презирал, и заслуженно, но никак не мог понять суровости кары. И Николай Павлович в который уже раз произнес про себя речь, обращенную к старшему сыну, которую ни разу не решился произнести вслух: «Разве тебе неизвестно, что всякий человек, мужчина или женщина, бросивший вызов обществу, попытавшийся преступить нравственные границы, установленные природой этого общества, веками, богом, не может остаться безнаказанным, и мое распоряжение в данном случае – не каприз, а выражение этой высшей воли, и если ты когда–нибудь вознамеришься в подобном случае руководствоваться порывами своей души, ты тотчас уподобишься тому печальному властителю, который пытался запретить скоту пожирать цветы в поле, потому что они красивы…» Но он никогда не решался произнести эту речь вслух, ибо понимал, что это – оправдание, да и только, что эту речь можно произнести перед сенатом, наперед презирая его молчаливое согласие, а сын вежливо скажет: «Это истинная правда». И это будет ужасней, чем возражение.
– Долго ли ты будешь там сопеть? – спросил он недовольно.
– Как могу–с, – непочтительно ответствовал Шуйский. – Порядок требует. Что было возразить? Декоратор знал, как ответить.
Солнце уже скрывалось за деревьями. Проскрипела телега, полная бочек и ящиков, сопровождаемая сосредоточенными фейерверкерами.
– Готово–с, – сказал Шумский. Император сделал шаг и усмехнулся.
– А ежели я упаду, а, Шумский?
Декоратор отмолчался. Николай Павлович подошел к окну вплотную и представил, как он будет выглядеть из парка в обрамлении оконной рамы. Он подумал, что мог бы обратиться к сыновьям с какой–нибудь полушутливой фразой, сказать, например, что–нибудь вроде: «Близится час испытаний. Готовы ли вы, господа?» Или: «А где же наши дамы?», подразумевая Александру Федоровну и старших дочерей, спешно примеряющих маскарадные туалеты в другом конце дворца, или просто кашлянуть, чтобы сыновья обернулись, и помахать им тяжелой железной рукой, или погрозить пальцем, или поманить их и прошептать им что–нибудь смешное, по–мужски доверительно… Но доспехи обязывали к иному. И чем ближе подступала минута празднества, чем резче становились тени, тем многозначительнее выглядели тяжелые одеяния, и предстоящий выезд обретал уже государственный смысл, ибо праздничная толпа должна не только насладиться лицезрением своего властителя, но и впитать в себя источаемые им веру, нравственность, мужество и почитание долга.
В восемь часов, как и предполагалось, августейшие всадники были уже в седлах. Позабыв о своих земных пристрастиях, отринув дотоле волновавшие их чувства, с хладнокровием и строгостью, достойными богов, они были готовы к предназначенной им роли. Усаживавшие их в седла служители, флигель–адъютанты, генералы свиты – вся эта улыбающаяся, кланяющаяся, благоговеющая, согласная армия с почтением отступила на шаг и застыла, как и подобает, ожидая, когда начнется сей исторический выезд. Француз–художник Горас Вернье, отступивший вместе со свитой, прицеливался взором издалека, и в его безумных глазах отражалась вся императорская семья, какой она должна была предстать пред современниками.
– Я хочу, чтобы господин Вернье запечатлел этот выезд, – сказал Николай Павлович, не оборачиваясь к французу…
Торопливость, с которой художник прикоснулся кистями к полотну, сказалась на сюжете. Константин Николаевич был почему–то изображен не в рыцарских доспехах, как это было на самом деле, а в обычном одеянии средневекового молодого человека, в мягкой шляпе с перьями, которую он приподнял, почтительно выслушивая отца. Сам Николай Павлович, с лицом усатого юноши, картинно вытянул правую руку, указывая направление движения; рядом на белом коне – Александра Федоровна в наряде амазонки; с левой стороны от государя гарцевал закованный в латы Александр Николаевич; в глубине расположились, тоже на конях, великая княжна Ольга Николаевна и Санни; в правом же углу, одетый в рыцарские доспехи, неожиданно возник герцог Лейхтенбергский, хотя на маскараде отсутствовал.