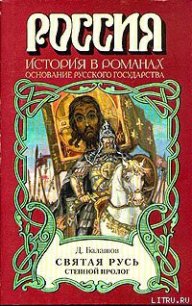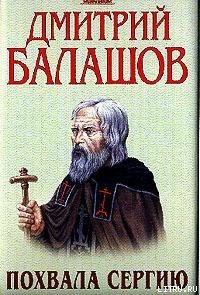Святая Русь. Книга 3 - Балашов Дмитрий Михайлович (книги онлайн .TXT) 📗
Богдан поднялся по тесовой, из дубовых плах, лестнице. Пригибая голову, прошел в обширную, на два света, палату, где заседал нынче боярский совет. Светлыми глазами, вприщур, обвел собрание нарочитой чади.
— Беда, вятшие! Не весь ли город ныне на вецевой площади! — сказал с суровою усмешкой. — Пора и нам показати ся на степени!
Есиф Захарьинич посмотрел на него с невнятною укоризной:
— И ты туда ж?
— А поглень с заборол, цьто деетси! — отмолвил Богдан Обакунович, опускаясь на лавку, на свое место.
— Надобно выступить владыке! — подсказал кто-то из председящих.
Архиепископ Иоанн тяжело повел головою в белом клобуке с воскрылиями (носить такой имели право лишь митрополит да архиепископ Великого Нова Города), глянул, изрек:
— Ты, Богдан, выступи тоже, тебя слушают! И Есиф Захарьиниць пущай скажет слово!
Оба кормленых князя, молодой и старый, согласно склонили головы. Старик Патракий не был талантлив как воевода и сам это знал. Право водить полки досталось ему по наследству, а не как награда за ратные подвиги. Он тронул рукою пышные, седые, вислые усы, прокашлял, рек:
— Про то, как порешили вести рать, на степени баять не будем!
Бояре завставали. Кто скинул было опашни, вздевали в рукава, застегивались, хотя на улице в этот день отеплело и хороводы капель падали с мохнатых свесов резных кровель. Холодом веяло не от тающих апрельских снегов — от самого принятого ими решения.
— Втравил ты нас в трудное дело! — шепнул, выходя из покоя, Тимофей Юрьич. Прусские бояре все были заедино, но кольнуть иногда чем-нито приятеля не возбранялось никому. Богдан оскалил зубы волчьей жестокой улыбкой. В 1385 году именно он, со славенским посадником Федором Тимофеичем, выдвинули и утвердили решение, ставшее решением всего города: «На суд в Москву к митрополиту не ходить, судебное не давать, а судитися у своего владыки, в Нове Городе». Из-за этой-то грамоты, подписанной всеми нарочитыми гражданами и положенной, за печатями, в ларь Святой Софии, и возгорелась нынешняя война. Киприан требовал вернуть ему митрополичий суд, а Новгород ссылался на волю всего города, которую никто отменить не вправе.
Воля всего города была. Люди шли, и шли, и шли, переполняя заречье, готовые отстаивать свои права и вольности с оружием в руках. До горьких слов архиепископа Ионы: «Кто возмог бы сокрушить таковое величество города моего, ежели бы зависть и злоба и разномыслие граждан его не погубили! » — до этих горьких слов, послуживших эпитафией великому вольному городу, было еще очень и очень далеко.
Посылая рать на Двину и в Заволочье, новгородцы еще не ведали того, что створилось в Торжке, где, тотчас по прибытии новгородских послов, вспыхнул бунт, невольным свидетелем которого и даже почти соучастником стал Иван Федоров. Встретить пасхальные дни дома ему не довелось. Почти в самый канун Светлого дня его вызвали во дворец, ко князю Василию. Подымаясь по ступеням, восходя переходами до нарочитых княжеских теремов, Иван замечал, сколь многое тут успели поиначить со дня смерти Данилы Феофаныча. И занавесы явились фряжской работы, и расписные «шафы», и веницейское, с витою колонкою посередине, окно в верхних сенях, толпа рынд у дверей, где раньше стояли всего два ратника, и простор новых палат, недавно занятых князем Василием, явно не пожелавшим тесниться в горенке своего покойного родителя, — все являло вкус юной хозяйки княжеского дома, воспитанной на подражаниях рыцарской роскоши латынского Запада.
Иван хмурил брови, не понимая еще, плохо то или хорошо и как ему отнестись к переменам в княжеском обиходе. Он намеренно сурово перекрестился на иконы старых киевских и суздальских писем, что казались чужими и чуждыми среди латынских поновлений дворца, и приготовился к нудной долготе «аудиенции» — слово-то одно чего стоит!
Впрочем, Василий Дмитрич принял Ивана быстро, нарушив заведенный Соней чин и ряд, вышел откуда-то сбоку, мановением руки раздвинув толпу ожидавших княжого приема бояр, и увел в прежний батюшков тесный покой, где и дышалось легче, и говорилось свободнее. Сели.
— На вас, спутников бегства нашего из Орды… — несколько выспренно начал он.
«Так и есть, дома Пасху справить не придет! » — подумал Иван, догадывая, что воспоследует новый посыл куда-нито. Впрочем, вспомнив неложные рыданья Василия над гробом Данилы Феофаныча, он несколько помягчел и, чуть-чуть улыбнувшись одними глазами, вопросил:
— Срочная служба надобна?
— Грамоту тайную в Торжок, передашь торговому гостю тамошнему…
— Максиму! — подсказал Федоров, отцовым разбойным оком глянув в очи великому князю. — Передаться надумали, што ли, Москве?
Василий принял взгляд кметя прямо и ясно. Научился уже глядеть пристойно княжескому званию своему. Отмолвил:
— Пока не ведаю!
Верно, с этим послужильцем бежали вместях из Орды, сидели в Кракове… Это не проходит. Да и забывать не след, верные слуги завсегда нужны!
— Боюсь, чернь не сблодила б чего!
Иван кивнул, боле не переспрашивая. Подумал, сведя брови, спросил:
— До Пасхи?! («За полтора дня? ») — Холодные мурашки поползли по коже, когда представил рыхлый снег, неверный лед на Волге и дикую скачку сменяемых на подставах коней. — До Пасхи, поди, не успеть!
— Надо успеть! — возразил князь. — Пото и послал за тобой! Княжая служба…
— Вестимо! — оборвал Иван, отметая разговор о награде.
— Кметей выбери сам, много-то не надобно…
— Двоих нать! — сказал Иван, прикидывая, что надо брать Кривого и Кошку, эти выдержат!
Василий, осуровев ликом, вручил ему запечатанную грамоту, перстень с княжою печатью (по нему на всех подставах и ямах не в очередь дадут коней) и кожаный кошель с серебром. Оба, князь и воин, встали.
Взошла Соня, Софья, располневшая, похорошевшая. Русским побытом поднесла Ивану чару стоялого меда на серебряном веницейском подносе. Иван принял чару, осушил, поклонил. Софья, слегка зардевшись, коснулась губами его склоненного чела. Вбежал придверник. Иван Федоров тут же наказал ему, кого вызвать, и пошел, простясь с князем, готовить коней. Солнце уже низило, наполняя золотом разноцветные стекла дворцовых окошек, скакать приходило в ночь.
— Успеет? — вопросила Софья, когда за Иваном закрылась дверь. Василий передернул плечами. Его всегда задевало, когда Соня сомневалась в ком-то из русичей. Отмолвил:
— Должен успеть! — Внутреннее чувство подсказывало ему, что затея с Торжком, пожалуй, слишком дерзка, и посланный кметь вполне может потерять там голову, но упрямство одолело: не выстали на борони, дак и наподи!
Мало кто поворачивал голову, провожая троицу княжеских кметей, что в опор, разбрызгивая мокрый, тяжелый снег, вылетели из ворот Кремника. К скорым гонцам на Москве попривыкли. Иван скакал, не умеряя прыти коня (на ближайшей подставе дадут свежего!). Только грай сердитых ворон летел следом, замирая в отдалении. Так же скакали его отец, и дед, и прадед — княжая служба! Да, по совести сказать, и самому нравилась безудержная лихость посольской гоньбы!
Тверь показалась на рассвете. Ночная сторожа долго не брала в толк: кто и куда? Через Волгу были настелены жерди, скрепленные утолоченным, заледенелым снегом. Оглядываясь в бледном свете наступающего дня, Иван видел, как ожесточели лица его спутников, запали щеки, серою тенью обвело глаза.
— Выдюжим! — хрипло крикнул ему Кривой, оскалом зубов изобразивши улыбку.
Сзади, радостными звонами колоколов, гудела пасхальная Тверь, и Иван, сцепляя зубы и хмурясь, прикидывал, что в Торжок они попадут в лучшем случае уже после пасхального разговления. На миг, только на миг, подумалось о куличах, пироге, печеной кабанятине… Сердце подсказывало, что скачут они не к добру, и еще — что обязательно опоздают.
Влажная весенняя ночь. Сахарный хруст подмерзшего снега. Синь. Тревога. И, уже издали, заполошный, совсем не праздничный набатный звон торжокских колоколен.
Иван Федоров подскакал к воротам, занятым московскою сторожей. Конь храпел, качаясь, роняя розовую пену с удил. Сторожевые кмети, глянув на перстень с печатью, со скрипом отворили створы ворот.