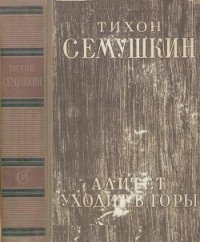Украденные горы (Трилогия) - Бедзык Дмитро (читать книги без сокращений .TXT) 📗
Великий трансконтинентальный путь! Гордость американцев. Железная дорога, которая пересекает весь Американский континент от Атлантического до Тихого океана. По ней день и ночь катятся бесконечно длинные эшелоны, нагруженные всеми богатствами американской земли, по ней молниями летят пассажирские экспрессы. Американская энциклопедия называет эту колею стальной артерией американской земли. Однако нигде, ни. в каких американских энциклопедиях ни одним словом не упомянуто о тех гонимых нуждой и голодом со всего мира людях, которые вместо обещанного счастья наталкивались здесь на жестокие мытарства и унижение.
Братик Иосиф и непоседливая Зося, может, и мама пропускали мимо ушей те места из писем отца, в которых он мимоходом намекал на то, что там вокруг него творилось. Зато меня очень тревожили эти неясности, какая-то загадочная история с негром Джоном и мистером Френсисом. Не давали покоя моему мальчишескому воображению и отдельные непонятные слова, которых с каждым письмом все прибавлялось, — «пикеты», «прерии», «вигвам», «резервации». А в последнем письме отец сообщал о страшной новости — о внезапной смерти негра Джона, после которой мистер Френсис, надсмотрщик над рабочими, словно сквозь землю провалился, так бесследно, что даже шерифу со своей полицией не удалось его найти. Не мог я понять, что это за индейцы, которых отец называет воинственным туземным племенем, и разве они не люди, что за ними, как он пишет, словно за зайцами, охотятся американцы.
Все это не давало мне покоя не только днем, но и ночью, и мама, чтобы как-нибудь успокоить меня, посоветовала обратиться с этим к учителю Станьчику.
Вступать с учителем в разговор, да еще после уроков, мы, школьники, не имели привычки. Учитель Станьчик, или, как мы его величали, «пан профессор», был человеком суровым, вечно озабоченным делами: уроками, хозяйством, больше всего, пожалуй, болезнью жены и судьбой своих красивых дочерей Ванды и Стефании. И все же я решился догнать его, хотя он после уроков спустился с крыльца и вышел со школьного двора. Краснея и запинаясь, я объяснил, что хотел бы узнать от пана профессора, как следует толковать непонятные для меня слова и выражения в письме отца.
Пан Станьчик когда-то давно, еще в молодые годы, учил моего дядю Петра и потому допускал по отношению ко мне некоторые поблажки и даже менее, чем других, наказывал за мелкие провинности. Увидев в моей руке письмо, он охотно согласился помочь мне. Приведя к себе на квартиру, спросил, как поживает мой дядя, ждем ли его к себе на пасху, и просил, если мама будет писать ему, передать от него сердечный привет. Тогда я, безусловно, еще не имел повода догадываться о каких-то особых отношениях между дядей Петром и старшей дочерью учителя, Стефанией, зато Станьчик, по-видимому, знал все, что не мешает знать заботливому отцу, потому что держал он себя со мною не как с учеником, а как с будущим своим родственником…
В тот день я много кое-чего узнал от учителя: что «прерии» — это обширнейшие низменные долины в Америке, некогда покрытые лесом, а теперь густой высокой травою, что «резервации» — скудные, пустынные земли, куда правительство Соединенных Штатов согнало индейцев, чтобы забрать у них богатые земли, те самые прерии. Узнал я также о нечеловеческой жестокости белых завоевателей, теперешних хозяев Соединенных Штатов, которые силой оружия, стреляя по непокорным, истребляя их, сгоняли индейцев с их земель. Сейчас индейцы гибнут от голода и холода в тех самых пустынных резервациях, где нет ни работы для них, ни хлеба, ни крыши над головой.
— Разве американцы не верят в бога? — спросил я, пораженный рассказом учителя. — Это грабеж, пан профессор! У нас бы этого не допустили.
Станьчик сухо улыбнулся, холодноватый блеск промелькнул в его глазах.
— Право сильного, Василько, а не грабеж, — поправил он меня спокойным тоном.
Я понимал, что это значит: кто сильнее — тот сверху, кто слабее — тот покоряйся. Не понимал я только одного, почему пан профессор не возмущен таким «правом», почему он спокоен, говоря о подобной несправедливости.
Мои мысли невольно перенеслись на наши лемковские порядки. Вспомнилась невеселая сцена в хате моего товарища Сухани, когда мама делила детям серый, с белыми овсяными остюками хлеб.
— До жнива еще далеко, Василько, — молвила она, словно оправдываясь, что скупо оделяет детей. — Надобно же как-то дотянуть до нового урожая.
— Пан профессор, так это выходит, что и у нас, как в Америке: кто сильнее, тот забирает все себе?
— Что ты говоришь, мальчишка! — прикрикнул на меня Станьчик. — У нас такого нет и быть не может. У нас справедливый и добрый император, который обо всех думает и заботится.
— Однако же, пан профессор, — силился я доказать свое, — мне кажется, что про мужицкую беду, про то (вспомнил я гневные дедовы слова), что мы живем среди леса и негде колышек взять, наш император ничего не знает. Конечно же не знает, — ответил я сам себе за учителя. Он, словно сливой подавился, вытянул шею и отмолчался. — В школьной хрестоматии, пан профессор, про справедливость нашего императора очень здорово напечатано.
Я передохнул, с удовольствием вспоминая знакомые, сто раз читанные страницы, где восхвалялся австрийский, самый добрый на всем свете император. У нас с мамой навертывались слезы на глаза, когда я, бывало, читал вслух некоторые из рассказов о Франце-Иосифе. То августейший присоединяется к похоронной процессии бедной вдовы, то в протянутую нищим ладонь кладет не десять крейцеров [8], а целую крону, то у себя в часовне встает на колени и долго-долго молится за обиженных, за нуждающихся своих подданных… Припоминая все это, я все больше проникался убеждением, что добрый император не мог бы допустить, чтобы с его подданными поступали так несправедливо, как в Ольховцах.
— Он, наверное, ничего не знает, пан профессор. Ему необходимо написать, что здесь у нас делается. Всю правду про то, как мы бедуем. И если позволите, пан профессор, то я первый возьмусь за это…
Учитель, не произнеся ни слова, поднялся из-за стола, воображая, верно, что я последую за ним и выйду наконец из дому. Но я был страшно увлечен своей затеей и, ничего не замечая вокруг себя, видел лишь в своем воображении, как обрадуются односельчане, когда нашего пана помещика, закованного в кандалы, жандармы, по велению августейшего, поведут по селу.
Наконец я оглянулся на учителя — тот ходил по комнате, как он это делал в школе перед началом урока, и немилосердно ерошил свои седые волосы, теребил ворот рубашки, затем и вовсе сдернул с шеи галстук. Я еще не мог понять, что с ним происходит. Неужели он не рад тому, как здорово я придумал избавиться от ненавистного всем пана помещика?
Станьчик молчал, расхаживая по комнате и вытирая лоб платком. Я уже хотел было попрощаться и уйти, но тут с лестницы послышались голоса дочерей учителя, возвращавшихся из гимназии.
— О-о, да у нас гости! — переступая порог, весело воскликнула Ванда, высокая девушка с ярким от мороза румянцем.
Она подошла ко мне, провела ладонью по моей голове, спросила о дяде Петре и, не дождавшись ответа, бросила на мягкий диван перевязанные ремешком книжки, потом серую меховую шапочку, после чего сбросила с себя пальто. Я смотрел на кипу книжек и думал, что, если дядя не поможет, я никогда не увижу гимназии и не узнаю, что в тех книжках написано.
Немного спустя зашла в комнату старшая дочь, Стефания. Бледнолицая, хрупкая, тихоголосая, со скромно опущенными темно-карими глазами, Стефания чем-то напоминала мне святую деву Марию, тогда как панна Ванда была похожа своими молодецкими ухватками на святого Димитрия, что с огненным мечом сторожил вход в алтарь в нашей церкви.
Ванда повела темными дугастыми бровями, кивнула сестре в мою сторону:
— Не узнаешь?
Стефания смутилась, краска поползла пятнами по ее лицу чуть ли не до ушей.
— Юрковичев, кажется? Добрый день, мальчик. Извини, что не знаю, как звать.