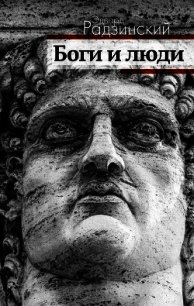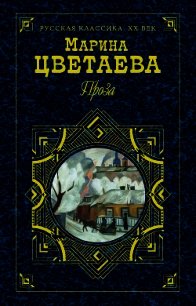Загадки любви (сборник) - Радзинский Эдвард Станиславович (читать полную версию книги .TXT) 📗
Помнится, в то время, встретив критика Б., я назвал Гошу «самым обычным великим актером». Я не боюсь сказать, что, к сожалению, не заметил этого вначале… Ну что ж, мне это урок, милостивый государь. Как там у Федора Михайловича Достоевского – «Не презирай мовешек». Вообще тема ожидания чуда в искусстве, как я ее раскрыл в своей книге, мне кажется очень современной.
Критик Д. был прав. Действительно, после «Скучной истории» – началось! Эпидемия!
Режиссер В., надумавший в то время ставить на телевидении «Отелло» («Я мечтал об этом двадцать лет!»), встретил на улице критика Е.
– А хотите, я вам скажу, кто может у вас сыграть Отелло? – сказал ему критик Е.
– Знаю, – вздохнул режиссер В. – Я знаю об этом уже десять лет. – (Он любил долголетие.)
– Вы слышали, режиссер Пилар будет ставить «Идиота» на телевидении. Как вы думаете, кто будет играть у него Рогожина? – спросила критик 3-а режиссершу В-у, встретившись с ней в «Пассаже».
– Он, – тотчас ответила В-а.
Так Гоша перестал быть «Гошей» и стал именоваться «Он», как и полагается богу.
И восторженная и вечно влюбленная критик П-а подытожила на пляже в Коктебеле:
– Он может все!
Он действительно мог тогда все.
У него оказалось разное лицо. Все возрасты были доступны этому лицу, и все состояния. И речь его, годами разработанная на радио, была поразительно гибкой. Но главное – во всем этом разнообразии Гоша был удивительно естествен…
Критик Д.:
– Он играл в самой современной манере, так, как научился во время долгих сидений на репетициях замечательного режиссера К.: изысканная нервность, безукоризненного вкуса сухость в сочетании с бьющими наповал двумя-тремя кусками роли, в которых проглядывал его бешеный темперамент, старательно сокрытый во все остальное время. Но когда кинорежиссер Пилар предложил Мещерякову сыграть Рогожина, он решил отважиться сыграть его несколько иначе, как умел только он. Об этом рассказывал мне сам Виктор Пилар. Ну что ж, Мещеряков уже мог позволить себе играть так, как хотел. Он был богом, и вокруг него, как вокруг всякого бога, уже собралось много нас – жрецов, обязанностью которых было поддерживать веру в него… «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан?» – сказано у Федора Михайловича…
Критик Д. опять был прав: Гоша был заранее избавлен от провала. Но все-таки он очень боялся неудачи – слишком долго ему не везло в жизни. И поэтому, кроме Рогожина, он согласился сниматься еще в двух «главнюках» и готовился их сыграть так, как от него ждали.
Работал он лихорадочно и совсем исхудал, к ужасу Дунянчика. Лицо его было теперь переплетено мелкими морщинками и напоминало вблизи печеное яблоко. Но в гриме он был красив совершенно. Теперь его красота уже никого не пугала.
Из театра режиссера К. Гоша ушел. У него не было теперь времени играть маленькие роли, а ничего другого режиссер К. ему по-прежнему не предлагал. (К. не видел его последних работ. Он считал, что кино развращает актера большими деньгами и легкой славой, поэтому в кино не ходил принципиально.)
В тот день Гоша пришел в театр получить трудовую книжку и проститься.
Он попрощался со всеми и выслушал безнадежные просьбы директора остаться. (Директор понимал, что на прежнем положении Гоша не останется, а убедить в чем-нибудь режиссера К. мог только сам режиссер К.) Наконец Гоша покинул кабинет директора и, опираясь на палку, пошел по фойе к выходу.
Из буфета навстречу ему шел сам режиссер К.
Это был подарок! Мещеряков ждал этой встречи. Все последнее время – ждал. Он даже приготовил фразу для нее!
Он остановился и, опираясь на палку, стал ждать. К. медленно шел по фойе, ему не хотелось встречаться с Гошей, но это было неизбежно.
Мещеряков не видел К. около года и сейчас в солнечном свете вдруг заметил, как тот постарел.
Они поздоровались.
Режиссер К. остановился и спросил отсутствующим голосом:
– Как себя чувствуете?
– Спасибо, сейчас хорошо.
– Желаю вам всяческих успехов. Жаль, что вы от нас уходите… – произнес К. все тем же отсутствующим голосом, напряженно думая о своем. И пошел дальше по фойе.
И тогда Мещеряков сказал ему вослед:
– А вы были правы – искусство требует жертв.
Это была приготовленная фраза.
К. остановился, помолчал несколько секунд, видимо, пытаясь собраться с мыслями, которые были, как всегда, весьма далеко. И медленно повторил, будто вдумываясь:
– Искусство… требует… жертв? – И вдруг добавил жестко, как выстрелил: – Нет. Времени оно требует… долгого времени…
И прошел мимо. Режиссер К. спешил тогда в макетную. Войдя, он задернул шторы, уселся в кресло и зажег макет декораций новой постановки. И более уже не вспоминал о Мещерякове.
Новая постановка режиссера К. называлась «Прикованный Прометей» Эсхила.
Лето в тот год было очень жаркое, но Мещеряков не отдыхал. Он спешил отсняться в двух «главнюках», чтобы освободить время для Рогожина.
Дунянчик наконец родила ему дочку (ее тоже назвали Дунянчик), и Мещеряков в мае снял для них дачу под Москвой. На субботу и воскресенье он всегда приезжал туда, но в последний месяц заехал только дважды.
Мещеряков влюбился.
Она работала на киностудии художницей по костюмам.
Ей было двадцать три года, она была хороша, по-современному хороша, то есть тонка, длинна, с узкими бедрами и копной пепельных волос. Сначала она была польщена ухаживанием «великого» (как все серьезно-шутливо называли на студии Мещерякова).
Она жила в однокомнатной кооперативной квартире в Гольянове. Ее дом был последней новостройкой, балкон выходил прямо в лес, и было очень удобно загорать прямо на этом балконе.
Она ошеломила Мещерякова сменой настроений.
Сначала без умолку острила о своем балконе, потом объясняла, как соскучилась по людям, которые ни на что не жалуются, и при этом хохотала, а потом вдруг впала в состояние нервной грусти – и у нее даже показались на глазах слезы.
Она ушла на балкон, Мещеряков – за ней. Она снова начала объяснять ему все преимущества балкона, и он ее молча поцеловал. И удивился, как ему стало хорошо.
Весь следующий день он был счастлив и все время вспоминал, как она наклонила голову, как падали вниз ее волосы и как сказала ему утром: «Ну, прощай, малыш». Называли его по-разному, но «малышом» – никогда.
На следующий день после съемки он дожидался ее у проходной. Она увидела его, взглянула почти изумленно и сказала:
– Разве я с вами условилась?
– Я просто подумал, девочка моя…
– А вам не кажется, что вы назойливы, сэр?
Самое удивительное, Мещеряков проглотил эту фразу и засмеялся.
– Я рада, что так получилось, – сказала она. – Но давайте наперед: мы будем с вами встречаться, когда я этого захочу.
– Мы можем вообще не встречаться…
– А мне как-то все равно, – ответила она, и на лице ее появилась уже знакомая нервная грусть.
И началась страшная жизнь. Она была первой женщиной, которую он любил и которая совсем его не любила. Он запутывался все больше и больше.
Ему все время казалось: вот сейчас он ее завоюет, вот сейчас станет она наконец покорной, сладостно-покорной, как были все до нее, вот сейчас, сейчас…
Но проходили дни, и он не заметил, как она уже стала при всех издеваться над ним… А он терпел все за редкие встречи.
Она уже прямо объясняла ему, что совсем его не любит, что он попросту стар для нее, что это был эпизод, и он исчерпан. Но ему все казалось уловками. Он хотел верить, что она оскорбляет его нарочно, от обиды за то, что он живет с ней, но не уходит от жены. Он объяснял ей, что не может уйти из семьи сейчас, когда Дунянчик только что родила. А она смеялась и говорила, чтобы он и не думал уходить, так как ей это совершенно ни к чему. Но он и эти ее слова объяснял обидой.
«Последняя любовь – от черта» – кажется, так говорят…
У него выдался перерыв в съемках на неделю, но она по-прежнему не встречалась с ним: объясняла, что живет у матери, которая заболела. Тогда он сам приехал к ней ночью – и она, конечно, была дома. Он вошел в квартиру, увидел разобранную кровать, мужскую рубашку на стуле…