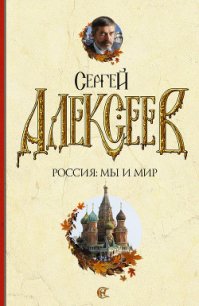Может собственных платонов... Юность Ломоносова - Андреев-Кривич Сергей Алексеевич (читать книги без .txt) 📗
— Как что? Двумя перстами крестным знамением себя осенить, осьмиконечный крест едино чтить.
— И за то на смерть идешь?
— Мало ли?
— Слушай, Федка. Один на один говорим. За одно это кончину готов принять?
Федор даже встал и ступил шаг к казаку.
— Ты-то зачем к нам в обитель пришел?
— Ну, ну, горячий. В драку, что ль? Нехорошо, нечестно, видишь, рана у меня. Уважить надо. Ишь, — ухмыльнулся Иван Косой, — ручищи да плечищи. Медведя сломишь.
Казак кивком показал место поближе к себе.
— Сядь.
Федор сел.
— Постарше я тебя. И успокойся. Я ведь тоже за старую веру. Истинная молитва от двух перстов, а не от трех, от щепоти.
— Так. Блаженнии отцы Петр Дамаскин, Феодорит Епископ и премудрый Максим Грек повелевают нам креститься двумя перстами, а не тремя.
— Ага, вон оно как. Из какой глубины идет. Ты что же — грамоте умеешь?
— Умею.
— Ну так. И о кресте все знаем. Об осьми концах.
— От трех древ сложен. От певга, кедра и кипариса.
— Кедр и кипарис знаю что такое. Кедр и неподалеку, гляди, встретишь, а на кипарисы в Персии как был, нагляделся. Он вверх, кипарис, глядит, ровно игла, тонкий такой да узенький. Будто проткнуть что хочет. Вот на вашу ель северную походит. И скажи — какое важное дерево. А вот певг что такое?
— Певг — сосна.
— Тут просто. Сосна она сосна и есть. Простое дерево, а без него в таком деле великом не обошлось.
— А о четырех концах крест — крыж, крыж латынския веры. О нем никто же от святых не воспомянул во едином слове, чтобы ему предпочтену быть истинному кресту господню. А царь чтит ныне крыж.
— Царь?
— Царь. А того не хочет знать, что во истории пишется. Когда пришла в царствующий град Москву из Царя-града царевна Софья к великому князю Ивану Васильевичу, а с нею пришел из Рима от папы посол и нес перед собою крыж, великий князь Иван Васильевич и преосвященный Филипп, митрополит Московский и всея Руси, и весь освященный собор, и царский синклит, и весь московский народ с тем крыжом к царствующему граду Москве подступиться не дали.
— Скажи, все знаешь. Учен.
— И тебе бы надо. Знать, за что стоишь. А еще и вот. В старых книгах писалось Исус, а в новых книгах выходу Никона патриарха против прежнего написано с приложением излишния буквы: Иисус. А нам не только страшно так в молитве сказать, страшно даже и помыслить об этом.
— От одной буквы и такой страх.
Федка нахмурился.
— Ну, ну, воин, не хмурься. Авось не испугаюсь. Скажи еще вот. Почему ты про то, что спрашиваю, вроде как по писаному говоришь?
— По писаному и есть. Наизусть с писаного выучил. Как окончится война наша, пойду в монахи. Раньше думал: отбуду свое по обету, уйду в мир, а теперь вижу — лучше в монахи.
— Двумя перстами, об осьми концах, крыж, — повторял казак. — А слыхал ты, что есть и бояре и дворяне, которые за то же?
— Значит, и те в праведной вере.
— В праведной, — процедил сквозь зубы казак. — А царь чтит ныне крыж?
— Да, царь.
— Стало быть, ты с крестом праведным против кого?
Федкa от неожиданности захлопал глазами.
— Задачу задал? — спросил казак.
Федка ответил зло:
— А почему он чтит крыж?
— А вот ты побывай у него да спроси. Посадит он тебя рядом, потолкуете вы по душам, да таково ласково тебе все и пояснит.
— Посадит…
— Ого! Монах! Монах! Злобиться-то монаху! Теперь вот что еще скажи: за что твоя молитва праведная от двух перстов?
— Как за что. За правду.
— А что правда?
— Как что…
— Так она перед тобой и сияет необоримая, или, может, поискать ее когда нужно? В миру-то, посередь людей.
Федор не отвечал.
— Нет ли и кривды?
— Бывает…
— Малость пособлю тебе. Ты откуда?
— С Двины я, с Курострова.
— А подале того на полдень бывал?
— Не случалось.
— Много земли в ту сторону лежит, много. Вот про бояр да дворян только что речь была.
— Слыхал. И сюда, в Соловки, приходили на богомолье.
— Какие они?
— А будто как и мы.
— Смиряются духом.
И вдруг казак добавил злобно:
— Надел волк овечью шкуру.
— Не любишь ты их.
Казак развязал кушак, повернулся спиной к Федке, высоко на плечи поднял рубаху.
— Вот это ты видел?
По обнаженной спине шли мясистые рубцы, краснели тяжи, стянувшие пробитую до мяса кожу.
— Чем тебя так?
— Плетьми.
Казак опустил рубаху.
— От боярина нашего благодарность за службу. Конюхом у него был. Да напоил как-то неостывшую лошадь, села она на ноги, а лошадь та любимая бояринова была. Вот и получил благодарность за службу. Чуть жив остался. Как встал да поправился — на Дон, в казаки. Не поймали.
— У нас бояр да дворян нету.
— А земли русской не только что у вас.
— Далеко.
— А спина моя тебе понравилась?
— Не понравилась.
— Ты по какому такому случаю здесь в бельцах, в трудниках, обретаешься?
— Грех на мне, — потупился Федка.
— Велик ли твой грех?
— По морю мы шли. Завязался нам противняк [35] да в силу вошел. Било нас море. Случилась беда. Коч наш о скалу. Все вплавь. А один в буруны попал, закружило его. Митька. Из нашей деревни. Друг-приятель. Я за ним в море. Под буруны. Покрепче я его. Первый по силе в деревне. Да схватили меня за руки, не пустили. Надо бы посильнее рвануться. Авось и вырвался бы. Ну, помедлил, а оно уже и поздно было. Крик Митькин последний не забуду, помирать буду. Замаливаю грех.
Казак хорошенько прокашлялся, выпрямился, повел плечами, поправил шапку и сказал басовито:
— Ежели, Федор, такой грех замаливаешь, чуешь, значит, что не один на земле живешь. Вокруг люди. Пройди всю землю русскую, далекую, нечужим оказался бы. Случись ты с нами, кто со Степаном Тимофеевичем на боях бывал, как по России-матушке мы шли, чуть не половину ее прошли, случись там, может, и ты правду какую для себя нашел. Выручать было что, было кого. Нашел бы ты ее, правду, от двух перстов да креста осьмиконечного не отходя.
— Не знаю, — хмуро ответил Федка.
С того дня еще суровее стал замаливавший свой грех Федор Савинов. Думал, прислушивался к разговорам.
Однажды он спросил Ивана Косого:
— Дядя Иван. Ты говоришь: бояре да дворяне. Неправду творят. А как они такую власть над мужиком взяли?
— А… Задело. Долгий разговор. Садись-ко.
— С чего начать? Слыхал ты, говорят: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»
— Слыхал.
— А об чем тут речь?
— Об чем? Как не удастся что, это и говоришь. Удивляешься, значит.
— А больше ты ничего не знаешь?
— Ничего будто.
— А когда Юрьев день бывает?
— Юрьев день бывает 26 ноября.
— Так вот, Федор Савинов. Деды говорили и отцы за ними. С их слов знаю. Выход об этот день был крестьянский, отказ. Мужику, что на боярской или дворянской земле сидел. Да. Сидит он, стало быть, на этой земле, в вотчине — тут тебе боярин, или в поместье — тут тебе уже дворянин, помещик. Дворишко мужику от хозяина земли идет — с той поры, как мужик у того боярина или помещика на землю его сел. А ежели не было двора — поставь его сам, дом сострой. Отвели тебе землю — паши ее, собирай хлеб, кормись сам и семью свою пропитай. Ну, конечно, не только эту землю тебе указали. Еще и хозяйская неподалеку указана. Ты ее тоже подними, с нее урожай собери и хозяину отвези. Он ведь сам не пашет, не сеет — где ему взять? Вот ты и уважь его. Идет год-другой-третий. Мир и любовь промеж боярина, или там помещика и мужика. Глянь — несколько лет и пробежало. Все мир и любовь. Почему им не быть? Кто же это сказал, чтобы от трудов твоих другому ничего не было? Однако зуд, может, у мужика. Захотелось ему от хозяина своего уйти. Ему и была на то воля. Выходи об Юрьев день, за неделю до него и еще в ту, что после этого дня. Две недели. Заране мужик договорится с каким другим боярином или дворянином, или, скажем, монастырем, которым уж вот как нужен мужик, потому справиться с землицей своей они никак без мужика не могут. Они за его выход от прежнего хозяина, за отказ, заплатят тому хозяину. Пожилым эти деньги прозывались. А иногда и сам мужик часть пожилого заплатит, а поднатужится — и все, может, внесет. Чудится это мужику, будто на новом месте реки молочные в кисельных берегах текут да в рот пряники медовые валятся. Сдал мужичишко двор свой, на телегу сел, семейство на нее посадил и на новое место, уж такое хорошее. Только непоседлив мужик. И вспадет ему на ум и с нового этого места куда в другое. Начинай все сначала. А потом вышел указ: нет тебе, мужику, Юрьева дня, выхода, отказа. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вот оно что значит. А как то понимать? Просто понимать: порешили царь, бояре да дворяне, что у мужика такая любовь к хозяину своему, что и расстаться жалко. Ну, мужичок по глупости своей того не поймет — возьмет да и даст стречка, потому как Юрьева дня для него боле не стало. Он и раньше, сказать правду, бегал, пожилым своего хозяина обидя, а тут и еще чаще бегать стал. От жизни при земле хозяйской уходить, от хорошей. Кто в леса подавался, кто на Дон, кто куда. Боярину и помещику было право: бей челом, чтобы мужика стреканувшего искать. Пять лет им давалось для той челобитной. Прошло пять лет, не сыскали слуги царские мужика, засел он где, будто мышь в подполье, конец делу. Погорюй боярин или помещик малость, а права больше нету. Объявись мужик — руку на него уже не наложишь. Пять лет эти урочными летами прозывались. Одно время мало пяти показалось — накинули, потом снова пять стало. Так потихонечку-полегонечку и шло. А потом царь-государь наш Алексей Михайлович, пошли ему, господи, многая лета, уложил: нету урочных лет никаких. Хоть через сколько лет боярин или дворянин мужика сыщет — его. Так вот и уложено теперь: живи, мужик, при своем боярине или помещике вечно. И ты, и дети твои, и внуки. Хозяин он вам добрый навек. Да.
35
Противняк — ветер.