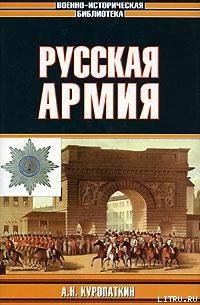Салтыков. Семи царей слуга - Мосияш Сергей Павлович (электронная книга txt) 📗
Опытный Ласси, точно рассчитав воздействие этого производства на донскую вольницу, так и сказал Салтыкову:
— Они его лучше слушаться будут.
И не ошибся.
А между тем шведский посланник Нольке, остановившись в Москве в доме Шетарди, пытался через него повлиять на императрицу, дабы склонить ее хоть к каким-то уступкам. Но безуспешно.
— Что она вам отвечает? — допытывался Нольке у маркиза.
— А ничего. Стоит мне заикнуться о деле, она машет рукой на меня: никаких дел, милый Шетарди, а то мы поссоримся. У меня есть правительство, пусть оно решает.
— Но ведь она врет! Одно ее слово…
— Конечно, она лукавит. Что я, не понимаю? Но не скажешь же ей об этом. Она императрица, и обвинение ее во лжи будет воспринято как оскорбление. А за это в лучшем случае вышибут из России, а то, чего доброго, и плетьми отчихвостят.
— Но у вас же экстерриториальность.
— Какая, к черту, экстерриториальность, Нольке! Вон с неделю тому с меня посреди Москвы шубу содрали. Меня дернуло за язык сказать, что я французский дипломат. «Ах, говорят, так ты еще и француз, тогда скидывай портки и сапоги». И сняли. Еще и накостыляли по шее. Вам смешно, а мне пришлось по снегу чуть не голому к дому бежать. Хорошо, было близко.
— Вы сказали государыне?
— Что вы? Боже упаси. Это же позорище, дипломат по Москве без штанов бегает. Кредит мигом испарится. Для всех посмешищем станешь. Не вздумайте вы где проговориться.
— О чем вы просите, маркиз. Разве я не понимаю?
— Вон Разумовский — ночной император — по пьянке ударил палкой генерала Салтыкова Петра Семеновича, и тот смолчал. Все хихикают, вот, мол, генерал, граф спустил мужику оскорбление. А что он мог сделать против фаворита? Да если б он его пальцем тронул, мигом бы загудел в Сибирь. И уж то не в счет, что назавтра протрезвевший Алексей Григорьевич просил у Салтыкова чуть не слезно прощения. Тверезый-то фаворит милейший человек, а вот по пьянке, вишь ты, сорвался. А за Салтыковым уж приклеилось прозвище «битый графчик». Иди теперь, попробуй соскреби. Так что вопить о своих синяках себе дороже обойдется, Нолькен.
Шведский посланник Нолькен, не будучи уверен в боеспособности своей армии, отправился в Фридрихсгам к Левенгаупту и Будденброку, где очень быстро убедился в своей правоте.
— Боже мой, с этим сбродом вы собираетесь воевать? — спросил он Левенгаупта.
— Я прошу вас не вмешиваться в наши дела, — отрезал мрачно генерал.
Будденброк, старый знакомый Нолькена, был более откровенен с ним:
— Эх, Эрик, головотяпы в Стокгольме вкупе с Парижем решили потягаться с русским колоссом, а нам с Левенгауптом придется отдуваться. Я уже чую на шее своей петлю палача.
— Надо же что-то предпринимать.
— Что предпримешь? У нас уже по тылам хозяйничает генерал Салтыков с казаками, а мы не можем отправить на него и полка.
— Почему?
— Левенгаупт говорит: нельзя, мол, распыляться. Тоже мне, полководец выискался. Ему в рикстаге место языком молоть, а он взялся армией командовать. Впрочем, в прошлом году это была армия, а нынче — сброд.
Ночью Нолькен при тусклом свете свечи засел за письма. Одно небольшое он написал фельдмаршалу Ласси, в котором сообщал, что находится во Фридрихсгаме, и умолял повременить с открытием боевых действий, хотя знал, что они давно идут. И просил еще доставить пакет в Москву господину Шетарди.
В письме маркизу Нолькен, на свой страх и риск, писал о готовности Стокгольма к переговорам и чтоб Шетарди, выйдя на императрицу, сообщил ей об этом. Здесь шведский посланник далеко превышал свои полномочия, выдавая желаемое за действительное. Утешал себя мыслью: «Ничего, пока письмо дойдет до Москвы, пока явится приказ оттуда, я успею в Стокгольме убедить наших головотяпов, что ныне спасение только в переговорах. Если уж у Будденброка шея чешется в предчувствии петли, то армию ждет катастрофа».
На Троицу, 6 июня, русская армия по случаю праздника отдыхала, а солдаты, приняв с утра свою положенную чарку, развлекались кто как мог: где играли в подкидного, кто-то чинил портки, где-то разинув рты слушали вранье полкового сказочника, некие отсыпались в палатках, лишь дозорные несли службу, таясь по кустам и расщелинам.
На такой дозор и налетел шведский унтер-офицер с барабанщиком.
— Я иду к фельдмаршалу Ласси, — сказал швед почти без акцента. — У меня к нему пакеты.
— Пойдем, — сказал дозорный гвардеец и на всякий случай пустил шведов впереди. Кто его знает, может, они за «языком» явились, а фельдмаршалом лишь прикрываются.
Появление шведов в лагере вызвало оживление среди солдат.
— Ты глянь, Васька где-то шведов захомутал.
— Ты где их добыл, Васьк?
Дозорный подвел шведов к палатке ротмистра конной гвардии Респе и крикнул:
— Господин ротмистр!
Офицер вышел из палатки с поручиком Икскулем:
— В чем дело?
— Вот явились о той стороны, господин ротмистр.
— Но мне нужен фельдмаршал Ласси, — сказал унтер-офицер.
— Зачем он вам? — спросил Респе.
— Я имею к нему письма от наших командиров.
— Давайте их мне.
— Но я должен передать фельдмаршалу лично в руки.
— Ты унтер-офицер, а не соображаешь, кто ж тебя пустит к фельдмаршалу? Давай. Ну что стоишь? Что мне их, силой отбирать, что ли?
Шведы переглянулись в нерешительности, перекинулись короткими фразами. И унтер-офицер, вынув из-за пазухи пакеты, передал их Респе.
— Я должен ждать ответа, — сказал унтер.
— Хорошо. Щербаков, помести их в свою палатку, приставь охрану, — распорядился ротмистр. — Я — к генералу.
Респе отправился к командиру своей дивизии генералу Ливену.
— Ваше превосходительство, от шведов явился унтер-офицер с письмами фельдмаршалу, говорит. Может, что важное.
— Ну-ка давай их сюда. Я иду на обед к генералу Кейту. Там решим, как их переправить фельдмаршалу.
— Но он ждет ответа.
— Где?
— В нашей роте.
— Это долгая песня.
— Я приставил к ним охрану.
— Не забудь покормить.
— Слушаюсь, ваше превосходительство.
Респе отправился назад в свой лагерь, генерал Ливен пошел к шатру генерала Кейта, расположившегося у речки, куда по случаю праздника приглашен был в числе других офицеров.
А в это время у конногвардейцев шло жаркое обсуждение случившегося.
— Слышь, братцы, наши благородия со шведами переписку завели. Снюхались.
— Ясно, одного поля ягоды, что шведы, что немцы.
— Я своими глазами зрел, как Респе кормил шведов и о чем-то перешептывался.
— Продадут они нас, братцы, не за понюшку.
— А что ж мы смотрим-то? Эвон семеновцы немчуре в бильярдной какую баню устроили.
— Их же судили.
— Ну и что? Немцы засудили, а государыня сказала, молодцы, мол, и всех помиловала. А офицерьев-то немцев всех в тюрьму велела.
— Ну ясно. Она наша — русская, их-то не шибко жалует.
Распаляла буйные головушки, видимо, и утренняя чарка. Дальше — больше, явился среди них и отчаюга из третьей роты Ермолай Петухов, умудрившийся три чарки выпить.
— Идем, братцы, спросим шведов за письма. Може, нас немчура предать сбирается.
— Айда, управимся.
За Ермолаем отправилось человек пятнадцать, а к палатке, где находились шведы под караулом, уже намоталось к ним более полусотни. Многие из приставших не знали, с чего шум.
— Шведы в лагере.
— Шведов идем бить.
Воодушевляемый толпой, следующей за ним, Ермолай закричал на часовых, стоявших у палатки:
— А ну-у вон!
Те в растерянности смотрели друг на друга. Один из них взмолился:
— Братцы, мы ж на посту, мы ж не имеем права.
— Кто вас поставил?
— Ротмистр Респе.
— Он немец, предатель. Прочь. — Петухов схватился за ружье караульного, потянул на себя.
— Не смей! — сразу посерьезнел тот. — Отпусти, Петух! — и рванул ружье из рук Ермолая.
Меж там толпа орала, напирая: