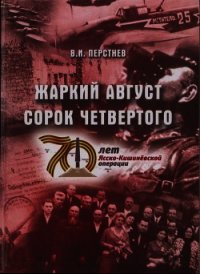Август - Уильямс Джон (полные книги .TXT) 📗
И вот нынче, когда моя собственная жизнь медленно, капля по капле покидает меня, в их судьбах мне видится некая гармония, которой я не был благословлен. Все они умерли в расцвете сил, завершив труд своей жизни, но при этом знали, что она могла подарить им еще много славных побед; им не случилось с сожалением узнать, что их жизнь прошла впустую. Я же теперь пришел к выводу, что почти двадцать лет моей жизни оказались выброшены на ветер. Александру Великому посчастливилось умереть молодым, иначе бы он узнал, что покорить мир — заслуга небольшая, а управлять им — и того меньшая.
Ты знаешь, что как поклонники мои, так и хулители часто сравнивали меня с молодым честолюбивым македонцем: это правда, что Римская империя ныне включает в себя многие из тех земель, что когда–то покорил Александр; также верно и то, что, как и он, я пришел к власти еще совсем молодым и успел побывать во многих землях, которые он первым подчинил своей необузданной воле. Однако я никогда не стремился к покорению мира и был скорее тем, кем правят, чем правителем.
И если я и присоединил к нашей империи новые территории, то сделал это лишь для защиты ее пределов — будь Италия в безопасности без этих завоеваний, я бы вполне удовлетворился нашими древними границами. Так вышло, что я провел в чужих землях больше времени, чем хотелось бы. От узкого пролива, где Боспор переходит в Понт Эвксинский, — до самых дальних берегов Испании; от холодных голых равнин Паннонии, где живут отогнанные от границ империи германские варвары, — до горячих песков Африки — везде я побывал; однако я чаще приходил в чужие страны не как завоеватель, а как посол, вступая в мирные переговоры с правителями, больше напоминающими племенных вождей, чем глав государств, часто даже не владеющими ни греческим, ни латынью. В отличие от моего дяди Юлия Цезаря, находившего некую странную новизну в продолжительных странствиях за границей, мне пребывание в чужеземных краях никогда не доставляло ни малейшего удовольствия — я всегда скучал по родным италийским просторам и даже по Риму.
Но я научился уважать и отчасти даже любить этих странных людей, столь непохожих на римлян, с коими мне приходилось иметь дело. Полуобнаженный воин из северных племен, закутавшийся в шкуру дикого зверя, коего он убил собственной рукой, и внимательно разглядывающий меня сквозь дым походного костра, не многим отличался от смуглого выходца из Северной Африки, принимавшего меня на вилле, пышностью своей затмевающей многие римские дворцы; как, впрочем, и от носящего на голове тюрбан персидского вельможи, с его тщательно завитой бородой, в шальварах и плаще, расшитом золотой и серебряной нитью, с внимательными, как у змеи, глазами; или от свирепого нумибийского вождя, встречающего меня с копьем и щитом из слоновой кожи, чье черное как смоль тело завернуто, в шкуру леопарда. Время от времени я давал этим людям власть и покровительство Рима, делая их царями в их собственных землях. Я даже предоставлял им римское гражданство, дабы именем Рима поддерживать порядок в их владениях. Они были варварами, и я не мог им полностью доверять; однако не раз я ловил себя на том, что находил в них не меньше черт, достойных восхищения, чем тех, что заслуживают порицания. Знание этих людей помогло мне лучше понять моих собственных соплеменников, которые зачастую казались мне не менее странными, чем другие народы, населяющие этот огромный мир.
За надушенным и тщательно завитым римским щеголем, одетым в тогу из запрещенного шелка и жеманно рассуждающим о своем замечательно ухоженном саде, стоит неотесанный селянин, который добывает свой хлеб насущный, ходя за плугом, весь покрытый потом и пылью; за мраморным фасадом самого роскошного римского особняка скрывается крытая соломой хижина сельского жителя, а в жреце, который совершает во славу богов ритуальное заклание белой телки, живет трудолюбивый отец семейства, обеспечивающий мясом на обед и одеждой для защиты от зимних холодов.
Одно время, когда мне необходимо было заручиться благорасположением и благодарностью народа, я, бывало, устраивал сражения гладиаторов. В то время большинство их участников были преступниками, которым за их низкие деяния в любом случае полагалась либо смерть, либо высылка из страны. Я предоставлял им выбор между ареной цирка и наказанием, что было назначено судом; при этом в качестве непременного условия я поставил право побежденного бойца просить о пощаде, а также то, что по истечении трех лет гладиатор, сумевший остаться в живых, будет отпущен на свободу вне зависимости от тяжести совершенного им преступления. Меня ничуть не удивляло, что преступник, осужденный на смерть или рудники, выбирал цирк, но вот что действительно поражало меня до глубины души, так это то, что осужденный на высылку из Рима предпочитал арену цирка относительно невеликим опасностям, ждущим его в чужих краях. Меня эти развлечения никогда не привлекали, однако я заставлял себя их посещать, чтобы показать народу, что разделяю его вкусы, и с ужасом созерцал, какое неизбывное наслаждение он получал от этого кровавого зрелища, как бы внося новый смысл в собственную жизнь посредством наблюдения за тем, как другой, менее удачливый, чем они, расставался со своей. Не раз мне приходилось усмирять кровожадную жестокость толпы, сохраняя жизнь храбро сражавшемуся бедолаге; при этом на лицах зрителей, в тот момент словно слившихся в одно, я читал горькое разочарование неудовлетворенной страсти. Я даже одно время приостановил зрелища, предусматривающие неминуемую смерть побежденного, и заменил их кулачными боями, в которых италиец противостоял варвару. Однако толпе это не приглянулось, и другие, желавшие купить себе обожание народа, стали устраивать зрелища настолько кровавые, что я был вынужден оставить эту свою затею с подменой и снова уступить пожеланиям моих соотечественников, дабы не потерять власти над ними.
Наблюдая за гладиаторами, возвращающимися из цирка в свои казармы, покрытыми кровью, пылью и потом, я замечал, что порой они рыдали, словно женщины, из–за совершеннейших пустяков: гибели ручного сокола, жестоких слов любовницы или потери любимого плаща. А на трибунах я видел респектабельных матрон, с искаженными лицами требующих крови злополучного бойца, а позже, в мирной домашней обстановке, с удивительной нежностью и лаской обращающихся со своими детьми и слугами.
Посему если в жилах даже самого светского римлянина неизбежно присутствует хоть капля крови его простого сельского предка, то также в них течет и горячая кровь самого дикого северного варвара, и обоим им не спрятаться за пышным фасадом, который он возвел не столько затем, чтобы отгородиться от других, сколько для того, чтобы скрыть свою истинную сущность от себя самого.
Следя за нашим неспешным продвижением на юг, мне вдруг подумалось, что гребцы, зная, что торопиться некуда, без всяких указаний с моей стороны инстинктивно держались в пределах видимости берега, хотя из–за постоянно меняющегося ветра следовать неровной линии побережья было весьма непросто. Есть что–то такое в глубине италийской души, что не жалует морскую стихию, и эта неприязнь к воде является, по мнению некоторых, такой необъяснимо острой, что выходит за рамки разумного. Это нечто большее, чем простой страх или естественная склонность сельского жителя трудиться на земле и избегать любой иной работы. Потому тяга твоего беспечного друга Страбона к путешествиям по чужим морям в поисках чего–то необычного не может не поражать обычного римлянина, который отваживается покинуть пределы видимости земли только в чрезвычайных обстоятельствах войны. И тем не менее под командованием Марка Агриппы римский флот стал самым могущественным за всю мировую историю, а битвы, которые спасли Рим от врагов, произошли на море. И все же неприязнь остается. Это неотъемлемая черта италийского характера.
Сию нелюбовь к водной стихии всегда хорошо понимали поэты. Тебе знакомо небольшое стихотворение Горация, обращенное к кораблю, несущему на своем борту его друга Вергилия в Афины? Все оно построено на изящной метафоре, сущность которой заключается в том, что боги отделили одну страну от другой не поддающимися воображению глубинами океана, чтобы люди, населяющие эти страны, могли бы различаться между собой; но человек в своем упрямом безрассудстве дерзает вторгнуться на утлом суденышке в чуждую ему стихию, которую не следует понапрасну дразнить. А сам Вергилий в своей великой поэме об основании Рима никогда не говорит о море иначе, как в самых зловещих тонах: Эол [62] посылает свои ветра и громы в морские глубины, из которых поднимаются волны такой высоты, что закрывают звезды; корабль раскалывается пополам, и все погружается в вечную тьму. Но даже сейчас, после стольких лет и многократных прочтений поэмы, у меня на глаза наворачиваются слезы при мысли о кормчем Палинуре, обманом завлеченном в глубины океана, где он находит свою смерть, слишком доверившись кажущемуся спокойствию моря и неба. Эней [63] горько оплакивает его гибель, в то время как обнаженное тело несчастного Палинура лежит, бездыханное, на неведомом берегу.